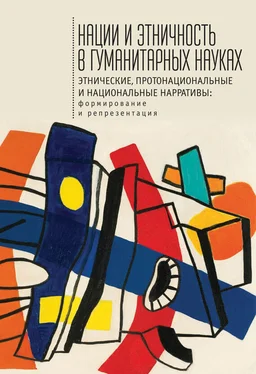«Русский вопрос» стал использоваться властью лишь в начале 2010-х гг. с ростом симпатий националистическим настроениям внутри России – в немалой степени из-за внимания СМИ к проблемам трудовой миграции и бюджетному федерализму (после Кондопоги). Некоторая попытка «сыграть на русскости» была предпринята властью 2007 г., когда «Единая Россия» заявила «Русский проект» под руководством Ивана Демидова. Проект позиционировался как лишенная «националистического» содержания попытка установить, что «стоит за определением «русский» [249]и запустить национальный «созидательный локомотив» развития России. Однако его старт накануне выборов в Госдуму в 2007 г. казался слишком очевидной попыткой «управляемого национализма» партии власти, направленной на «аккумуляцию» националистически настроенной части избирателей. Поскольку ни одна националистическая сила (ни «Народный союз», ни «Великая Россия») так и не были допущены к участию в выборах, разыграть «русский вопрос» в политическом пространстве власти не удалось. В отсутствии актуальных вопросов, связанных с национальными проблемами и статусом русских, в повестке «Единой России» (как обещанных шагов по поиску оснований русской идентичности) власти не удалось увлечь граждан «русской темой», хотя проект получил определенный резонанс.
Только после ряда «Русских маршей», ежегодно (начиная с 2005 г.) организуемых националистами, несмотря на запреты, и особенно после «Манежки» (2010 г.) «русский вопрос» стал фигурировать в официальном дискурсе власти. После того, как национальной темы на выборах 2011–2012 гг. коснулись почти все политические силы, В. Путин в программной статье «Россия: национальный вопрос» впервые заговорил о субъектности русских, назвав русский народ стержнем и скрепляющей тканью, отметив, однако, что самоопределение свое русские находят в том, чтобы скреплять своим культурным ядром русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар в полиэтническую цивилизацию [250]. Симпатии политическому национализму, таким образом, предполагалось погасить очередным признанием «старшинства русских» в семье теперь уже российских народов. Но о политической субъектности русских власть предпочитала не говорить. «Стратегия национальной политики» (2012 г.) лишь номинально признавала за русским народ объединяющую роль, благодаря которому «сформировалась уникальная цивилизационная общность – многонародная российская нация».
Тем не менее, присоединение Крыма под лозунгами «русской ирреденты» власть объясняла именно необходимостью обеспечения русской субъектности в сопредельных государствах. «Крымской речью» 18 марта 2014 г. В. Путин прямо обосновал права РФ на Крым «русским фактором»: «в Крыму – могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу», а Севастополь – это Родина Русского Черноморского военного флота, заявил он. Вмешательство России во внутренние дела Украины после Майдана аргументировалось тем, что «на Украине и в Крыму живут миллионы русских людей», от участия в судьбе которых Россия «не могла уже отступить». Туже идею моральной оправданности (пусть и нелегитимной) защиты русских на «исторических территориях» президент озвучил в фильме «Крым. Путь на родину», снятом, если верить создателям, сразу после присоединения: «я говорил им [западным коллегами], что это [Крым] наша историческая территория, там проживают русские люди, они оказались в опасности, мы не можем их бросить» [251].
Наконец, связав широко востребованный «патриотами»-популистами 1990-х гг. тезис: «Русский народ стал одним из самых больших, если не сказать самым большим разделенным народом в мире» с идеей того, что «при оформлении распада СССР забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота – Севастополь» В. Путин прямо обосновал «русификацию» внешней политики [252]. Спустя месяц после референдума В. Путин подтвердил недопустимость для России геополитического выдавливания из региона, «за который столько косточек русских положено в течение всех предыдущих веков» и особую значимость Севастополя как «города русской военно-морской славы» [253]именно историческими правами русских. Таким образом фактически было обосновано обратное применение принципа «jus sanguinis» («права крови») в отношении территории Крыма.
В «кровном обосновании» прав на Крым официальная власть не стеснялась драматических эскапад. Симптоматичным был отклик Марии Захаровой, заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ, на публикацию правительством ФРГ краткой версии истории Крыма, где коренным населением население полуострова обозначались крымские татары, украинцы, армяне, греки, немцы, но не русские. Обращая внимание на досадную оплошность, М. Захарова резко заявила: «Получается, что в Крыму никогда не было и сейчас нет никаких русских», а также довольно жестко интерпретировала отсутствие упоминания русских геополитическим противостоянием, длящимся со времен Холодной войны, и даже желанием физического исчезновения русских: «Возможно, правительство ФРГ… решило… напомнить, что мы – «проигравшая сторона», и поэтому русские, которым каждый раз удается выживать, постепенно должны исчезать из истории, хотя бы на бумаге?» [254]. Иными словами, проводилась идея агрессивной к русским внешнеполитической среды и буквально необходимости борьбы русских буквально за свое выживание, особенно в Крыму.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу