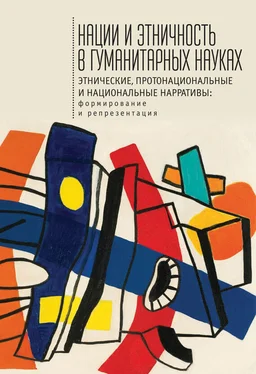Н. К. Рерих говорит о существовавшем запрете на восточный национализм и о том, как и кем он был преодолен: «Было время, когда по неведению и неразумию считалось неуместным называть себя азиатами. Но затем трудами многих просвещенных людей этот нелепый предрассудок сгладился» [229]. Однако в целом неясно, как политически неразвитые периферии будут интегрироваться в тело государства. Кроме того, в нарративах Н. К. Рериха представлены сюжеты, связанные с описанием восточного империализма: «Тибет присваивал себе духовное преимущество над своими соседями. Тибетцы смотрят свысока на сиккимцев, ладакцев, калмыков и называют монголов как бы своими обязанными подданными» [230]. Вслед за этим исследователь говорит про попытки периферийных (варварских) народов отделиться от империи: «[Якуб-Бек – А. Д.] полвека назад пытался освободить Туркестан от китайского владычества, но не сумел выбрать себе союзников» [231]. Существуют азиатские территории, которые в определенном смысле можно назвать европейскими: «Образуется новый Афганистан, возникает новый Китай, осознаёт себя Монголия, примет великое служение Тибет. Ничто не останавливается» [232]– в понимании заимствования этими территориями достижений и образцов европейской цивилизации.
Возможно, еще не все азиатские народы определились с осознанием себя (не)азиатами/европейцами: «Монголы и буряты хотят видеть разные страны, хотят быть и в Германии и во Франции. Любят Америку и Германию» [233]. Индия – территория, где соприкасаются разные европейские народы, однако коренные этносы могут затеряться или вовсе исчезнуть: «В Коломбо встречает швейцарский консул. Полицейский-ирландец. Француз-торговец. Грек с непристойными картинками. Голландцы-чаевики, итальянец-шофер. Где же, однако, сингалезы? Неужели все переехали в театры Европы?» [234]. И, тем не менее, тенденцию разобщенности, инаковости не только восточных и западных людей, но и самих азиатов необходимо преодолевать: «Так на красном ковре восемь мусульман, непрошено и нежданно, до полуночи славословят Христа и мироздание…Одно сознание!» [235]; «Одно и то же место имело и китайское, и монгольское, и тибетское имя, звучавшее совершенно особенно» [236].
Рериха-художника не оставляет идея заимствования восточного западной культурной традицией: «…племена северного Тибета хоры странным образом напоминают некоторые европейские типы. Ничего в них нет ни китайского, ни монгольского, ни индусского. Перед вами в искаженном виде проходят лики с портретов старофранцузских, нидерландских, испанских художников» [237]. В этом смысле воображение исследователя, находящегося на Востоке, сосредоточено в большей степени на западном. Он как будто специально пытается найти общее, смешивая в воображении попадающие в поле зрения элементы азиатской культуры.
Рерих-археолог указывает на культуру древневосточных народов, составивших некий фундамент современной восточной культуры. По его мнению, раскрыв эти тайны, тайны древности, человечество может выйти на принципиально новую ступень развития: «Лишь совсем недавно в области Карачи и Лагора были найдены остатки древних городов от 5000 до 6000 лет, показывающие на высокую древнейшую культуру суммарийских или эламских. Много цилиндров с надписями, напоминающими вавилонские, найдены в этих развалинах, и, когда их удастся прочесть, они, вероятно, дадут новую страницу человеческой жизни» [238].
Религия как элемент культуры, по-видимому, является не просто культур грегерским маркером идентичности азиатов и европейцев, но и фактором, помогающим определить национальную идентичность народа: «Казалось бы, что общего имеет старый буддизм с ранним христианством? Но уже Ориген, один из самых ранних писателей христианских, упоминает буддистов Британии. Конечно, проповедники царя Ашоки могли проникать даже к далеким британским островам. Культ змия Шотландии имеет аналогии с культом китайского дракона и со змием Индии» [239].
Восток не закрыт для Запада. Также верно и обратное: «Вместо мелких ссор отрицания история напоминает нам о поистине международных связях. Указывается как на исторический факт, что монгольский богдохан был спасен от болезни “явлением Николая”» [240]. Проблема, однако, заключается в другом, а именно в равнодушии людей, забывающих свою историю: «Мирные медлительные тюрки, совершенно забывшие о своем участии в шествиях Чингиса и Тамерлана» [241].
Едва ли Н. К. Рерих задумывается про так называемый «удаленный национализм» [242]: не у всех азиатских людей (хронологические рамки дневниковых записей Рериха ограничиваются приблизительно 1900–1930 годами) есть возможность оставлять территорию проживания и, переехав, влиять на политическую ситуацию своей родной страны, поскольку некоторые этносы до сих пор находятся на низшей ступени развития; не у всех развита даже письменность, не говоря уже об осознании себя частью данного этноса. В подобной ситуации «удаленными националистами» могут считаться, безусловно, образованные индусы – дети представителей высших каст, имевшие возможность учиться за рубежом (главным образом, в Великобритании) и влиять на процессы деколонизации Индии. Можно ли назвать самого Рериха «удаленным» националистом? Однозначного ответа на этот вопрос нет: с точки зрения влияния Н. К. Рериха на политическую ситуацию у себя на родине, в СССР, едва ли можно утверждать, что его авторитет был бесспорен [243]. Вероятно, Н. К. Рерих мог влиять лишь на культурную ситуацию в стране, при этом преимущественно опосредованно – через своих представителей в рериховских сообществах, не всегда существовавших официально.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу