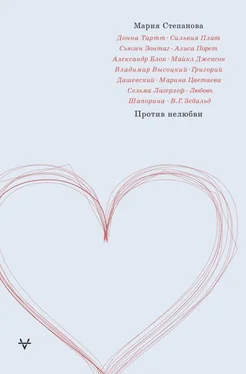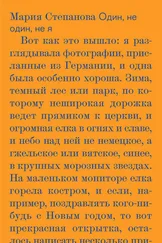Видимо, все дело в самой способности отвернуться от страдания, неважно, своего или чужого. Ключевым оказывается добровольный отказ видеть/сознавать, умение по собственной воле отключить механизм эмпатии: то, что отличает тех, кто закрыл глаза и идет дальше, от тех, кто оглянулся (как Орфей и Лотова жена). То, что умение выживать свойственно скорее первой группе, несомненно. Для тех, кто волей или неволей принадлежит ко второй, сегодня важно найти способ жить не зажмуриваясь.
Потому что пора уже, кажется, сделать настоящее пригодным для жизни. То, что я имею в виду, – не тактика малых дел (кто сказал, что этого достаточно?) и уж точно не оправдание разного рода компромиссов и коллабораций; скорее это попытка напомнить себе о евангельском «всегда радуйтесь». Выполнять это требование мне кажется самым важным сейчас; важным, как никогда, важным, как всегда.
5
Потому что обстоятельства никогда не будут достаточно хороши, чтобы можно было начать набело, с чистого листа, с красного дня календаря. Ущербная, лежалая, с бочком, жизнь, данная нам в ощущении, – то самое настоящее, которое приходится обживать, не дожидаясь game-over’a с обнулением ставок, России без Путина, чистого понедельника. Скорее всего, так все и будет дальше: без нежданных чудес, упрощающих нам задачу.
Хочется только застолбить за собой хотя бы этот участок настоящего. Настоящее – это политика (а прошлое – магия, утверждающая, что все равно всему), и, кажется, самое время отказаться от магии во имя политики. По крайней мере, от грубой магии с вызыванием мертвецов и применением жертвенной крови. Я думаю об этом и в связи с собственным текстом, где прошлое и будущее, как гигантские фигуры на ходулях, обладают какой-то лишней, заемной жизнью – словно у них есть возможность брать, давать и наказывать по собственной воле. Время позволить прошлому стать прошлым, перестать рассчитывать на его арсенал, утопить волшебные книги – и начать расширять, расталкивать, возделывать территорию сегодняшнего дня, как будто это место для жизни, а не предбанник перед газовой камерой. Главное – отодвинуть, как занавеску, тень неотменимости, приговором висящую над сегодняшним днем. Тогда, кто знает, станет возможным и другое прошлое – как несбывшееся, еще не исполненное обещание.
Об этом писал Блок в 1909-м: «…итальянская старина ясно показывает, что искусство еще страшно молодо, что не сделано еще почти ничего, а совершенного – вовсе ничего: так что искусство всякое (и великая литература в том числе) еще все впереди». И все остальное тоже.
2015
В конце зимы в соцсетях замелькало известие об одной находке. После многолетних усилий и промахов британские археологи обнаружили место последнего упокоения Ричарда Третьего. Зарубленный в бою (десять глубоких ран, расколотый надвое череп), наскоро закопанный пятьсот лет назад, горбатый король был успешно найден под асфальтом автомобильной парковки и извлечен оттуда во славу точного знания. И все прямо по источникам, по хроникам, чуть ли не по Шекспиру, – ошибка исключена, это он! Миру и городу было предъявлено все, чем был известен покойник – и кривой позвоночник (до десяти лет мальчик рос здоровым, знаменитый горб, исказивший его судьбу, вырос не сразу), и широкие плечи бойца, и следы от ударов – трещины в костях, в которые можно запустить хоть целую пятерню.
Я все думаю о том, что вечный покой невозможен даже в большей степени, чем вечная память. Проживешь свою, дурную скорее всего, заляпанную чем-нибудь стыдным ли, страшным жизнь, блаженно выпустишь ее из рук – или нехотя их разожмешь – и ухоженный квадратик памяти постепенно начнет зарастать, дети-внуки-правнуки еще как-то помаячат над краями, а потом все сровняется с землей и землей заровняется. Это всегда казалось мне утешительным (и имеющим мало отношения к загробной жизни души, ее летуче-бродячей субстанции) – то, что себя можно снять, как тяжелый рюкзак, гора с плеч, или перевернуть, как страницу, всеми буквами вниз. Ashes to ashes, dust to dust, этот кувшин был когда-то мною, прохожий, остановись – и последнее ничего-не-остается, которое дает уставшим возможность затеряться (до радостного утра – или как там придется).
Но не выйдет, не дадут, вытащат из-под любого камня, перевернут, опознают – вот ты где! – будут светить своими фонарями и тыкать пальцами в бедный спинной хребет, впервые за сотни лет выставленный напоказ. Покойник, конечно, стеснялся его и ненавидел, до срока прятался по углам, потом вышел на люди: «Уродлив, исковеркан и до срока / Я послан в мир живой; я недоделан, – / Такой убогий и хромой, что псы, / Когда пред ними ковыляю, лают». Эта заметность его и обрекла на превращение в экспонат; и мать сыра земля (великий уравнитель, последнее прибежище) не спрятала, и превратиться в пыль не удалось. Жуткая эта беззащитность перед чужим любопытством касается и живых, но с мертвыми-то можно не стесняться. Никаких секретов, никаких телесных или душевных тайн: доблесть исследователя – найти то, что спрятано, охотник желает знать. И вот он заголяет наготу отца своего, и без колебаний переходит к братьям и сестрам, тем, кто ближе к нам во временно́й цепочке, и о них можно вспомнить побольше всякого интересного.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу