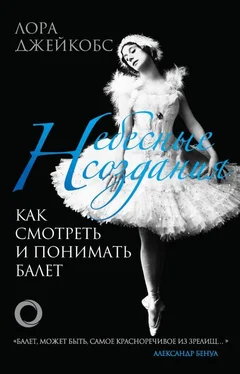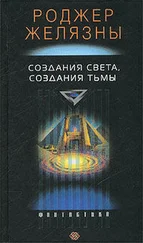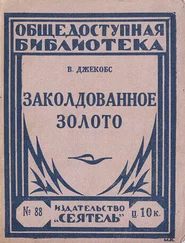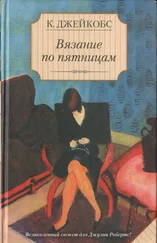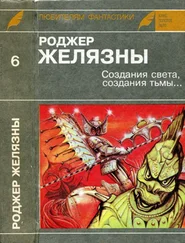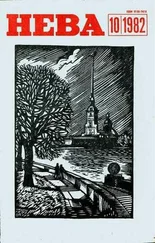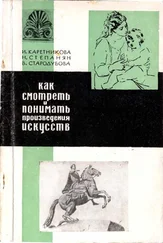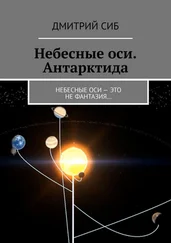«Мы видим мир через мистическую призму цвета, и в этом особенность визуального восприятия», – пишет художник-абстракционист Ганс Гофман в своем эссе «Поиск реальности в изобразительном искусстве». Именно «мистическая призма цвета» легла в основу непревзойденных балетов Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» (1877), «Спящая красавица» (1890) и «Щелкунчик» (1892). Отдавая себе отчет в том, что его творчество – предмет слухового восприятия, а балет (искусство, страстным поклонником которого он являлся) – это царство визуального, Чайковский объединил эти две сферы так, как не удавалось до него еще ни одному композитору. Он сумел нарисовать контур звука так, что тот стал почти видимым и обрел форму и линию, а затем наполнил эти формы и линии сочными красками и текстурой оркестрового звучания. Чайковский первым услышал, увидел, почувствовал и сделал осязаемым то, что прежде являлось в балете нереальным, сюрреалистичным. Он превратил неосязаемое в то, что можно прочувствовать, найти, увидеть. (1)
Короче говоря, балетное искусство без Чайковского представить невозможно, невозможно узнать, что случилось бы с ним, не будь Чайковского, и выжило ли бы оно вообще. «Лебединое озеро» привнесло в балет серьезность, которая никогда раньше не отличала это искусство. «Спящая красавица» изменила судьбы многих артистов, работавших в балете на рубеже XIX–XX веков. А «Щелкунчик», ставший рождественской традицией – балет, на который всегда распроданы билеты, до сих пор держит балетные компании на плаву. Нет в балетном мире другого творца, подобного Чайковскому. Его мечты и страхи, его жизнь, его порывы – все это раз и навсегда изменило балетное искусство. Если вы не преклоняетесь перед Чайковским, вы вряд ли сможете полюбить балет. Давайте начнем с волнующей музыкальной темы из «Лебединого озера», известной каждому – с темы королевы лебедей Одетты – и посмотрим, куда она нас приведет.
Эта мелодия доносится из чащи леса в конце первого акта. Она принадлежит Одетте – принцессе, которую колдун превратил в белого лебедя. Гибкая, как лебединая шея, мелодия повторяется в начале второго акта, когда юный принц Зигфрид, охотясь на лебедей, приближается к озеру с арбалетом. В основе этой темы – повторы, пульсирующая мольба отчаяния. Прислушайтесь к ней. Она вьется и кружится, падает и взмывает вверх, словно пытаясь вырваться за пределы верхнего фа-диеза; так и Одетта извивается и кружится, пытаясь вырваться из оков колдовского проклятья. В этой мелодии, которая совершенно по праву прославилась на весь мир, Чайковский запечатлел и лебедя, и проклятье. Мало того, тему Одетты играет деревянный духовой инструмент – гобой, голос зеленых лесов и влажных камышей. Одинокая песнь гобоя, проплывающая над мягкими переборами арфы, подобными зыби на поверхности воды, переносит нас на берег озера, на границу миров, в призрачную, ускользающую реальность, где человеческое и сверхъестественное сливаются в теле балерины, танцующей партию Одетты.
Музыка Чайковского настолько метафорична, что кажется, будто он не просто сочинял музыкальное сопровождение к балетам, но поразительным образом становился их хореографом. «Щелкунчик», самый дотошно сконструированный из трех его шедевров, не нуждается даже в синопсисе: достаточно закрыть глаза, и становится понятно, что в этом балете происходит. Но даже «Лебединое озеро», первый балет из трех, которым сам Чайковский был менее всего удовлетворен, отличалось очень богатой образностью, даже кинематографичностью, и в сравнении со всем, что было создано в балетном искусстве до этого, стало погружением в гораздо более глубокие воды. В то время балетная музыка была совершенно невыразительной и незапоминающейся. А «Лебединое озеро» стало работой музыкального гения.
Между тем партитура «Лебединого озера» воспринималась неоднозначно. Как объясняет в своем превосходном исследовании «Балеты Чайковского» балетовед Роланд Джон Уайли, – из-за того, что «композитор [впервые] применил к балетной музыке симфонические принципы». Это был смелый шаг. Чайковский хотел, чтобы музыкальное произведение развивалось органично и обладало монументальным размахом симфонии, но перед ним стояли и вполне прозаические задачи: соответствие сюжету и сценическим требованиям. Добиваясь ощущения архитектурной целостности и единства, он создал систему тональных отношений, где каждому персонажу соответствует определенная тональность или ключ, пространство той или иной эмоциональной окраски. Структура «Лебединого озера» была намного сложнее, чем у других балетов XIX века, к которым привыкла аудитория того времени. Более того, эта структура была эмоциональной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу