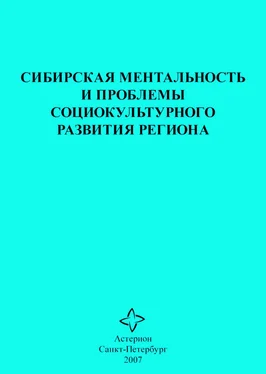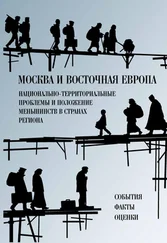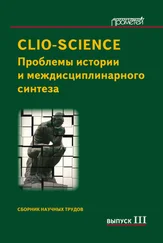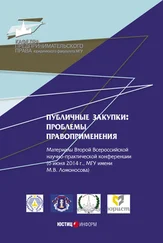Природный фактор указывает на закалку характера сибиряка, на развитие коллективных форм труда, повседневной жизни, на способность к сотрудничеству между различными этническими группами, к различных формам обмена информацией и заимствований опыта друг у друга. Но действие этого фактора не охватывает всей сложности и многоплановости сибирского характера. Не менее важным в определении генезиса «сибирячества» является рассмотрение социального фактора.
Сошлемся в этом случае на исследование Т. С. Мамсик, где автор справедливо указывает на ошибочность гипотезы, по которой «предполагалось, что хозяйство сибирского русского земледельца представляло собой ячейку феодального (местами и по временам – даже «крепостнического») общества, отдававшую все «избытки» своего труда казне» [20] Мамсик Т. С. Социальный фактор в этнокультурном развитии русских старожилов Сибири: хозяйственный комплекс начала XIX века. // Там же, с. 309.
. Отметив несостоятельность теории «государственного феодализма» в Сибири, автор справедливо отмечает, что сибиряк не был не только крепостным, но и его хозяйственную деятельность нельзя воспринимать по аналогии с русским европейским крестьянством. «При ближайшем рассмотрении, – пишет Т. С. Мамсик, – обнаруживается, что не только экономика сибирской деревни, но и быт сибирских земледельцев нес на себе некрестьянские черты, отражавшие его «зависимость» от денег и рынка. Сибиряк не знал российских лаптей, он повседневно носил кожаную обувь, в праздники одевался в наряды из мануфактурных, хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных, как правило, импортных тканей, пользовался посудой и утварью из фарфора, фаянса, кожи, металла, также приобретаемых на международном рынке» [21] Там же, с. 310.
. Далее Т. С. Мамсик подчеркивает: «Суть сибирского регионального варианта аграрного развития состояла в эволюции не от феодализма к капитализму, как предполагалось в рамках концепции, лежащей в основе доныне существующей парадигмы, а в переходе от изначально формировавшегося у колонистов мелкотоварного уклада хозяйства к системе хозяйства буржуазного (мелкобуржуазного) типа. Определенный баланс укладов (тенденция к равновесию), а вместе с тем, несомненная устойчивость специфической культуры сельского населения края были обусловлены, как можно предполагать, социальной структурой демографического процесса в сибирской деревне» [22] Там же, с. 316.
. На основании своих исследований в интересующем нас аспекте проблемы автор делает следующие выводы: «при смене поколений все социальные группы получали пополнение за счет выходцев из «крестьянских трудовых» семей, что в культурном отношении вело к поддержанию единой системы ценностей, единых стереотипов поведения. Это служило основой для фамильно-клановых сообществ, связи внутри которых «перекрывали» систему социально-экономических отношений в рамках локальных сообществ» [23] Там же.
. Сочетание земельного хозяйства со скотоводством, тенденция товарного производства и рынка делали сибиряка самостоятельным хозяином, не зависимым от администрации региона или какого-либо иного начальства. Выплата установленных налогов была единственной связью и зависимостью от государства, что позволяло сибиряку чувствовать себя крепко стоящим на ногах. Эта его особенность – будем кратки – укрепляла традиционность его повседневной жизни, создавала особый склад характера, определяемого уверенностью в собственных силах и в своем лишь от него самого зависящем благополучии и достатке [24] В данном случае мы не затрагиваем вопрос о социальных слоях русского населения Сибири, учитывая, что подробный разбор этой темы не изменил бы общих положений и выводов относительно роли социального фактора в становлении сибирского характера и сибирской идентичности.
.
Наконец – социокультурный фактор, который прежде всего связан с устойчивостью традиций, формированием тех общих черт мироотношения, которые породила в психологии и миропонимании сибиряка и отношение к окружающей его природе, и его отношение к труду как относительно свободной и самостоятельно организуемой деятельности, и его отношение к прошлому, к устоявшемуся семейно-клановому и общинному быту. Тот же цитированный нами автор верно замечает: «Вне зависимости от социального статуса дворов хозяйство крестьян оставалось принципиально индивидуальным, т. е. основанным отнюдь не на коммунальных началах, хотя и при наличии второго важнейшего компонента системы жизнеобеспечения – семейно-родовой (фамильно-клановой) самоорганизации, совпадавшей в частных, но нередких случаях с соседской сельской общиной. Индивидуальное дворохозяйство (и волостной хозяйственный комплекс в целом) имели модель комплексной «триады», формально напоминавшей схему хозяйства аборигенов «дорусской» Сибири: промыслы – скотоводство – земледелие, дополняемое «домашней промышленностью» [25] Мамсик ТС, Указ. соч., с. 311.
. Это заключение указывает на то, что традиции русского землепользования в Сибири было естественно «вписано» в традиции аборигенного полиэтнического населения, напоминало особо характерные для древнерусской традиции по жизнеустройству соседские общины и в силу этого разделяло культурный опыт и социокультурные ориентиры вместе с аборигенным населением. Здесь следовало бы поговорить о культурных традициях, сопоставляя традиции народов Сибири и, несомненно, обнаруживая в этих сравнениях много общего и общесибирского [26] См., напр.: Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. (вторая половина XIX – начало XX в.). Л., 1978; Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989; и др.
. Здесь помогло бы и обращение к функциям орнамента, и к мифологемам территорий и регионов, и к традициям общения с природой, и к различным формам искусства. Но такие сопоставления и выявления общих начал с необходимостью предполагают новую тему, не способную поместиться в ограниченном пространстве данной статьи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу