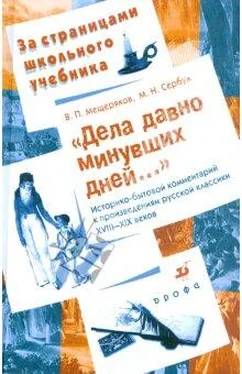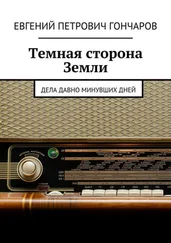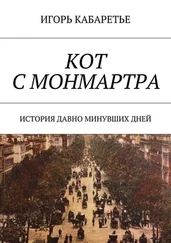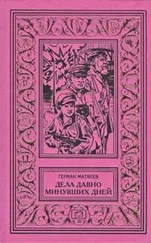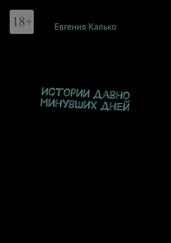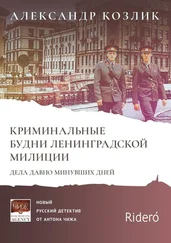Этим идеалом и руководствовалась крестьянская община, хотя, как мы это видели, отступления от такой нравственной нормы происходило нередко. Но в общем итоге преобладает (при общем довольно низком уровне жизни) парадоксальная тенденция – преобладание нерабочего времени над рабочим. «Преобладание нерабочего времени над рабочим – характерная черта всякого традиционного сообщества, к которому, несомненно, относилась русская сельская община. По наблюдениям антропологов, чем архаичнее общество, тем больше времени люди тратят на поддержание консенсуса, своего статуса и достоинства, хороших отношений, на общение, на религиозную общественную жизнь. <���… > Психологическая основа дляинтенсивных личных отношений заключается в том, что физическое, духовное или эмоциональное сближение людей снимает напряжение, доставляет людям удовольствие. Для крестьян представляло большую ценность обсуждение общих проблем, слухов, переживание общих эмоций, выработка общей линии поведения в отношении к соседней деревне или помещику – ведь вся их жизнь была сконцентрирована на своей деревне, на отношениях с соседями и родственниками». [70]
Подсчитано, что накануне отмены крепостного права нерабочих дней на селе было более 220 (составлялись они из праздников и выходных, времени болезни, общественных дел, поездок на ярмарку и т. п.), то есть нерабочее время составляло около 62 %. После реформы 1861 года доля нерабочих дней поднялась до 71 %.
Такой порядок, поддерживаемый всем строем сельской общины, не способствовал укреплению мужицких хозяйств, но расстаться с ним решались очень немногие, поскольку это грозило негативным отношением всего окружения ретивого труженика.
И еще одно. Русский крестьянин при всех его титанических усилиях зачастую не мог выбиться из нужды и потому, что основные земельные угодья России находятся в зоне так называемого рискованного земледелия – солнечные дни, благоприятствующие созреванию злаковых, у нас на грани минимума. Если лето бывало холодным или с затяжными дождями, все труды пахаря шли прахом. И крепкие хозяйства в считанные месяцы могли превратиться в полунищие, а при малоземелье и отсутствии страховочных средств этот процесс шел еще быстрее.
Чтобы прокормить семью и поддерживать определенный средний уровень существования, крестьянину приходилось искать дополнительных заработков. Чаще всего это были какие-нибудь ремесла. Так, в Палехе и Холуе (Владимирская губерния) уже в XVII веке возникли целые династии иконописцев, чьи творения распространялись по всей Руси. В Дымкове (Вятская губерния) издавна специализировались на производстве глиняной раскрашенной игрушки, Кимры поставляли обувь, в других местах обжигали глиняную посуду, катали валенки, варили дешевое мыло и т. д. Заработки сельских мастеров были невелики и нестабильны, но, поскольку все они имели свое подсобное хозяйство, их положение все-таки было куда лучше, нежели тех, кто занимался одним хлебопашеством.
Развиты были и «отхожие промыслы». Хозяева, овладевшие каким-либо ремеслом, уходили на заработки в крупные города, где работали каменщиками, печниками, подвизались в трактирных служителях и т. п.
В поэме Некрасова странники не раз сталкиваются с такими отходниками. Это и мужики, ранее принадлежавшие Оболт-Оболдуеву, каменщик Трофим, каменотес-олончанин, Яким Нагой, занимавшийся отхожим промыслом в молодости, не названный по имени «мужик богатый… питерщик». «Питерщиками» называли отходников, которые трудились в северной столице. Нередко связь «питерщиков» с родной деревней заключалась лишь в том, что их семьи проживали в селе, а сами они наезжали домой время от времени. Колоритные типы таких отходников изображены в рассказах А. Писемского «Питерщик» (1852) и «Плотничья артель» (1855). Современники по-разному оценивали значение отходничества в крестьянской жизни. Часто отмечали дух самостоятельности, независимости у поработавших на стороне, особенно в больших городах, подчеркивали осведомленность отходников в самых разнообразных вопросах. Например, фольклорист П. И. Якушкин, немало походивший по деревням, писал в 40-х г. XIX в. о Раненбургском уезде Рязанской губернии: «Народ в уезде более, нежели в других местах, образован, причина чего ясная – многие отсюда ходят на работу в Москву… набирают уму-разуму».
Не владеющие ремеслом, если подступала нужда, шли в бурлаки. Это была уже последняя степень падения крестьянина. Н. Лесков в «Соборянах» (1872) писал: «Из голодавших зимой деревень ежедневно прибывали в город толпы оборванных мужиков в лаптях и белых войлочных колпачках. Они набивались в бурлаки из одних податей и из хлеба и были очень счастливы, если их брали сплавлять в далекие страны тот самый хлеб, которого недоставало у них дома. Но и этого счастья, разумеется, удостаивались не все. Предложение труда далеко превышало запрос на него».
Читать дальше