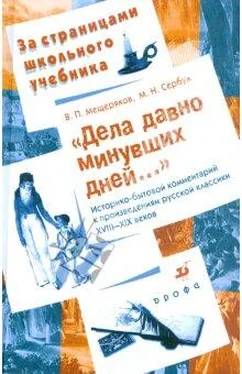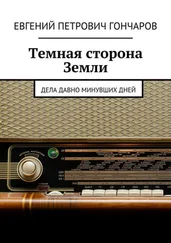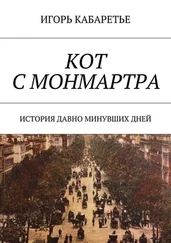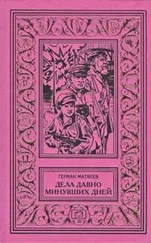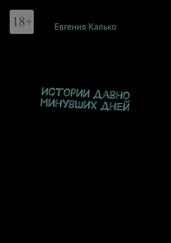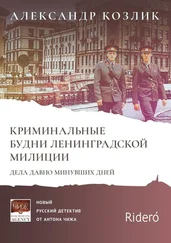Нужно было обладать воистину неизбывным физическим и душевным здоровьем, и силой, и, что еще важнее, терпением, и кротостью, чтобы нести такую ношу не год, не два, а всю жизнь.
Неделя за неделею,
Одним порядком шли,
Что год, то дети: некогда
Ни думать, ни печалиться,
Дай Бог с работой справиться
Да лоб перекрестить.
Поешь – когда останется
От старших да от деточек,
Уснешь – когда больна… <���… >
Всему
Я покорилась: первая
С постели Тимофеевна,
Последняя – в постель…
История Матрены Тимофеевны словно вместила в себя все тяготы судьбы русской крестьянки. Разумеется, не всем женщинам в мужицкой семье пришлось испытать так много. Сама Матрена Тимофеевна говорит, что у ее родителей жизнь складывалась по-другому («У нас была хорошая, / Непьющая семья. / За батюшкой, за матушкой, / Как у Христа за пазухой, / Жила я…»).
В. Белов справедливо замечает: «Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную любовь, несмотря на семейную многочисленность. Ругань, зависть, своекорыстие не только считались грехом. Они были просто лично невыгодны для любого члена семьи. Любовь и согласие между родственниками давали начало любви и за пределами дома. От человека, не любящего и не уважающего собственных родных, трудно ждать уважения к другим людям, к соседям по деревне, по волости, по уезду».
Матрена Тимофеевна попала в семью, изначально раздираемую взаимными претензиями и обидами, поэтому и с ее характером ей приходилось тяжело. Однако же с мужем она была счастлива.
Не трогай нас – нам весело,
Всегда у нас лады.
То правда, что и мужа-то
Такого, как Филиппушка,
Со свечкой поискать…
Вообще внедрение женщины в другую семью в народном сознании было всегда связано с горестными переживаниями. Вот мать наставляет Матрену в девичестве:
В чужой семье – недолог сон! Уложат спать позднехонько, Придут будить до солнышка…
Об изначальной враждебности чужой семьи к «пришельцам» повествуют и народные обрядовые песни. По всей вероятности, здесь проявляется недоверие крестьянина, живущего в маленьком замкнутом мирке, ко всему, что отличается от собственного уклада жизни. В. Белов об этом пишет: «…Когда девица выходила замуж, ей даже соседняя деревня казалась вначале чужой стороной. Еще «чужее» становилась чужая сторонушка, когда уходили в бурлаки. Солдатская «чужая сторона» была совсем уж суровой и далекой. Уходя на чужую сторону, надо скрепить сердце, иначе можно и пропасть. «В гостях как люди, а дома как хошь», – говорится в пословице».
В соответствии с этим представлением и мать Матрены заранее уверена, что ее любимицу не ждет ничего хорошего:
Чужая-то сторонушка
Не сахаром посыпана,
Не медом полита!
Там холодно, там голодно…
<���…>
Облают псы косматые,
И люди засмеют!..
А ведь жених у Матрены завидный («пригож-румян, широк-могуч» и к тому же «питерщик, / По мастерству печник»), а стало быть, по деревенским меркам, человек не бедный и не полностью зависящий от земли.
И все-таки мать Матрены права, когда не сулит дочери безмятежного житья. Молодая золовка в семье крестьянской была «запрограммирована» на послушание и терпение. В противном случае ее доля лишь ухудшалась: против «пришелицы» ополчались прежде всего бабы, да и муж нередко принимал сторону своих. Так и Филипп, хотя он и любит молодую жену, наставляет ее перед отъездом: «молчать, терпеть».
Терпению и трудолюбию в деревенском быту начинали обучать с раннего детства, ведь именно эти качества и определяли всю жизнь крестьянина.
Мальчиков привлекали к делу примерно с 9 лет. Сначала они стерегли лошадей, загоняли скотину, вернувшуюся с пастбища, через пару лет учили ездить верхом и ухаживать за лошадьми, выполнять посильные поручения при пахоте.
«У девочек на первом месте стояло обучение домашнему мастерству. На одиннадцатом году учили прясть на самопрялке; на тринадцатом вышивать; шить рубахи и вымачиватьхолсты – на четырнадцатом; ткать кросны [69] —на пятнадцатом или шестнадцатом; устанавливать самой ткацкий стан – на семнадцатом.
Одновременно в 15–16 лет девушка училась доить корову; на шестнадцатом выезжала на сенокос грести сено, начинала жать и вязать в снопы рожь. Полной работницей она считалась в 18 лет. К этому времени хорошая невеста… должна была еще уметь испечь хлеб и стряпать» (М. Громыко).
Читать дальше