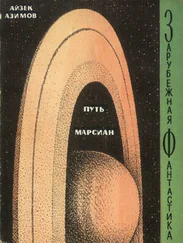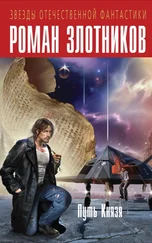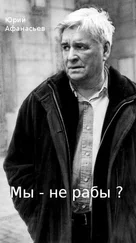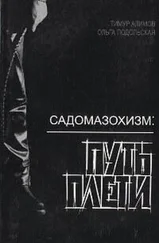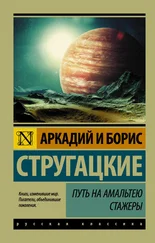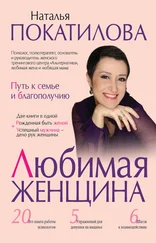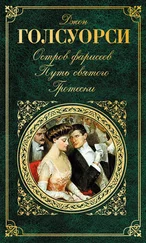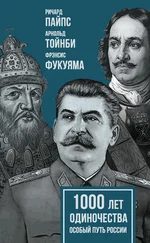Если в немецком варианте «нормой» выступает некий идеальный тип Запада , то в России — это некая идеальная Европа , от которой русский «особый путь» отклоняется. Идеал на то и идеал, что он недостижим. История России XVIII–XIX веков изучается под знаком европеизации, пронизывающей всю общественную систему от государственного аппарата, системы образования и вплоть до повседневной жизни высших слоев, и — что не удивительно — результаты этого европейского влияния оцениваются как не отвечающие европейским стандартам. Самое «европейское» в русском государстве — аристократия, на которую в рамках концепции «особого пути» возлагается такая же ответственность, как и в традиции Билефельдской школы на немецкое дворянство [Wehler 1977], но даже и она не соответствует высоким запросам западного идеала Сравнительные исследования по истории дворянства и по сей день поддерживают линию противопоставления «европейское — русское», продолжая дискуссию о том, было ли русское дворянство только вариантом европейского феномена или совершенно специфическим явлением [192] См., например, наиболее репрезентативные работы по сравнительной истории дворянства: вновь переизданный в 2007 году сборник [Scott 1995] или [Ливен 2000].
.
Созданный русской литературой XIX века дискурс поддерживается в современной историографии и семантически — через постоянное использование литературных метафор и благодаря заложенному в теории особого пути представлению о некой идеальной европейской норме. Эта картина варварской и отсталой России и лежащих в ее основе философско-исторических оснований была перенята и многими поколениями русских реформаторов [Wiedekehr 2002: 272]. К этой риторике апеллируют не только современные «модернизаторы» России, но и историки, выстраивающие ту же телеологическую схему русской истории, точкой схода которой является очередной провал очередной реформы. В основе этого построения содержится исходная мысль: никакие реформы невозможны в такой стране, которая не соответствует европейскому идеалу. Так, кажется, что русские историки не меньше, чем немецкие, боятся оказаться на так называемом восточном пути , страх перед которым лежал в основе перерождения концепции немецкого Sonderweg в концепцию европейского пути, являвшегося для Ранке и Штейна противовесом как «восточному деспотизму» (русскому абсолютизму), так и американскому либерализму [Raulet 2001: 21–22]. Российская историография особого пути так же боится потерять систему координат и впасть в релятивизм, отказавшись от некой идеальной нормы, как и немецкая — отказаться от морального ориентира в историческом развитии.
При всем уважении к идеалам и морали — что такой подход может дать современному историческому исследованию? Главная теоретическая проблема: концепт Sonderweg способен более навредить историческому исследованию, чем его продвинуть. Вот мои краткие соображения, как мы можем избежать этой теоретической опасности.
В самом понятии «особый путь» предполагается наличие неособого пути, который мы могли бы принять за норму. Научно обосновать наличие такой нормы ни сравнительной, ни какой-либо другой истории не удастся. Эта теоретическая слабость влечет следующую проблему: сама парадигма Sonderweg никогда не представляла собой стройной единой теории, а была только агломерацией сходных утверждений и способов аргументации, целью которых было проследить определенный исторический путь в модерность. Тот факт, что на этом пути между различными национальными государствами наблюдается много схожих явлений и процессов, еще не говорит о том, что есть один «правильный» путь в модерность, к которому всем нам следует стремиться.
И последняя теоретическая слабость, представляющая для историка, возможно, наибольшее зло, — это вынужденный телеологизм исторических исследований, построенных на концепции Sonderweg. Любой «особый путь» образует связность исторического процесса исходя из его результата, а также обременен необходимостью строиться на аргументации телеологического характера, в то время как историк не имеет права интерпретировать исторический процесс, исходя исключительно из того, к чему он пришел [Nipperdey 1986]. Телеологический подход несет в себе опасность упрощения и разрушения индивидуальности прошедших событий. Конечно, нетрудно найти объяснения событию, которое уже произошло, однако оно никогда не происходит потому, что оно должно было случиться. Подобная интерпретация исторической причинности приводит к ужасному упрощению, поскольку игнорирует многообразие и открытость исторического процесса. Примером такого упрощения служит американская теория модернизации, которая неслучайно в 1960 ‐ е годы способствовала усилению «отклонения» немецкой истории от общей модернизационной «нормы», значительно усилив релятивизацию концепции «особого пути» [Бу дде, Кока 2002: 70]. В действительности сцепление модернизации и демократизации не может быть просто принято за аксиому, потому что тут мы снова возвращаемся к постулированию некой «нормы».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Тимур Атнашев «Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник] обложка книги](/books/24493/timur-atnashev-osobyj-put-ot-ideologii-k-metodu-cover.webp)

![Братья Стругацкие - Путь на Амальтею. Стажеры [сборник; litres]](/books/34218/bratya-strugackie-put-na-amalteyu-stazhery-sborn-thumb.webp)