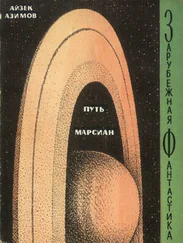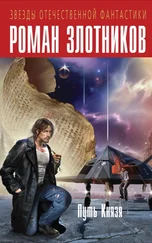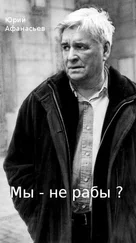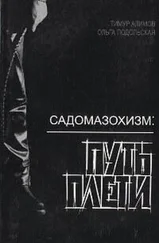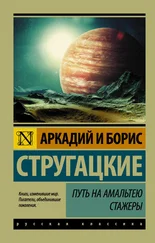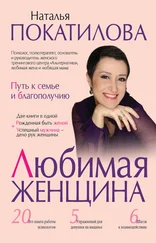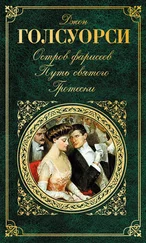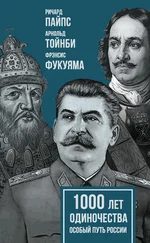Однако подобная замена никоим образом не в состоянии снять вопрос: что понимается здесь под «нормой»? Цель этой терминологической манипуляции лежит не в области приближения к исторической реальности, а в утверждении рамок, за которые она не должна выходить. Здесь мы переходим из плоскости исторической науки в плоскость морали, представлявшейся необходимой в историописании поколению послевоенных историков.
Эта, так сказать, психологическая функция теории «особого пути», подробно проанализированная в историографии [190] Примеры подобной трактовки: [Faulenbach 1980; Raulet 2001].
, вводит и российских ученых в соблазн оценивать, например, распад СССР в тех же теоретических рамках и, возможно, с той же целью: найти оправдание и/или пережить собственную травму. О роли концепции «особого пути» в обработке проблемы «немецкой вины» (Ясперс) с постоянной отсылкой к вопросу, «почему Германия, в отличие от других стран, имевших схожие условия, выбрала дорогу к тоталитарной фашистской системе» [Будде, Кока 2002: 77] [191] Также психологическое объяснение см. в: [Хряков 2010].
, написано уже достаточно. О политических импликациях и мифологии концепта «особого пути» существуют работы и на русском, и на немецком материале [Möller 1982; Blackbourn, Eley 1984; Дубин 2010]. Вследствие этого современное осмысление понятия «особый путь» становится «ключевым в системе взглядов и идей (идеологии), сопровождающей становление национального государства или его глубокие кризисы, осознаваемые как провал предшествующего национального проекта» [Паин 2010: 8]. Какой же прирост знания мы можем выиграть от сравнения двух похожих способов аргументирования? Никакое сопоставление не позволит снять проблему подвижной грани между теоретической концепцией «особого пути» и его мифом, мифологемой [Дубин 2010], как и любой формой политических импликаций, переходящих в идеологию.
Кроме того, этот путь может увести нас очень далеко от исторического исследования: тут мы попадаем на зыбкую почву недомолвок, туманных аллюзий и исторических манипуляций. Вот пример подобного рода интерпретации современной импликации российского «особого пути»:
Господствующая ныне идея культурно-исторического фатализма пришла на смену прямо противоположному подходу: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», полностью отрицающему как исторический путь, так и влияние социокультурных традиций. Само шараханье из крайности в крайность чрезвычайно симптоматично — оно и отражает одну из существенных особенностей российской социокультурной специфики, которая принципиально не похожа на образ жесткой колеи или упорядоченной статичной «матрицы». Это антиматрица — социокультурные качели или маятник с громадной амплитудой колебания ценностей. Они быстро меняются, и чаще всего в форме инверсии, то есть смены оценок на противоположные [Паин 2008].
Но даже не заходя так далеко в область субъективного и эмоционального, историки Билефельдской школы тоже не были в состоянии освободиться от «болезненного» шока при смене оценки всей довоенной немецкой истории с «+» на «—», вышедшего наружу в их споре с Дэвидом Блэкборном. Как бы болезненно ни реагировали немецкие историки на его критику, но предложенный Блэкборном парафраз знаменитого высказывания Леопольда фон Ранке — немецкая история написана так, «как этого не было на самом деле», — метит в слабое звено репрезентации немецкого «особого пути» [Blackbourn, Eley 1984: 159]. Как пишет современный критик этой концепции, «развитие послевоенной немецкой историографии дает основание предполагать, что она вполне удовлетворилась тем, что поставила перед концепцией „особого пути“ знак минус и тем самым подошла к самому феномену менее критически» [Raulet 2001: 11].
Простая замена знака «+» (гордости за сильное правительство, уверенной в себе и трудолюбивой буржуазии и долгой традиции реформ сверху [Ruoss 2009] — как своего собственного пути Германии в модерность, приведшего к уважению власти и государства со стороны населения) на знак «—» («запаздывающую модернизацию», по выражению Хельмута Плеснера, приведшую в результате Германию к катастрофе 1933 года) означает, что авторы послевоенной историографии продолжают пользоваться тем же самым теоретическим инструментарием.
Утвержденный Билефельдской школой собственный путь Германии был основан на идее вынужденного движения кайзеровской Германии к модерности, присутствовавшей уже у Карла Маркса [Raulet 2001: 7]. «По причине постоянного противоречия между экономической модернизацией и общественно-политической отсталостью», писал Ханс-Ульрих Велер, Германия двигалась по другому , чем все остальные европейские государства, пути, что и привело в результате к нацизму [Wehler 1977: 40]. Эта теория сумела занять главные позиции в немецкой историографии, несмотря на то что у нее уже тогда были жесткие критики. Против подобного взгляда возражал Томас Ниппердай, говоря, что «уважать своеобразие определенной исторической эпохи означает не описывать ее как особый или только как особый путь с точкой схода в 1933 году» [Nipperdey 1986].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Тимур Атнашев «Особый путь»: от идеологии к методу [Сборник] обложка книги](/books/24493/timur-atnashev-osobyj-put-ot-ideologii-k-metodu-cover.webp)

![Братья Стругацкие - Путь на Амальтею. Стажеры [сборник; litres]](/books/34218/bratya-strugackie-put-na-amalteyu-stazhery-sborn-thumb.webp)