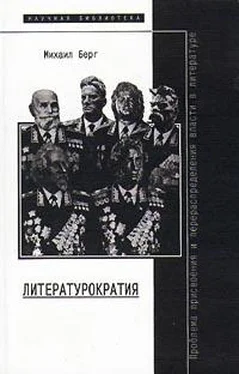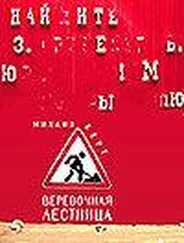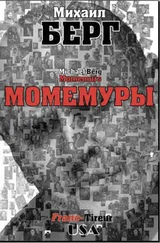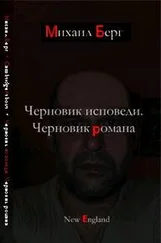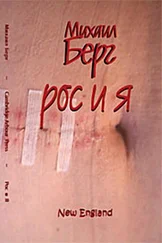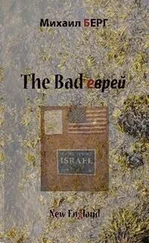(440) Так, по мнению Смирнова, «ничто не запечатлевает в себе психику с той же отчетливостью, как литература (искусство). В литературе воображение (психизм) не считается с эмпирикой, историзуя ее» (Смирнов 1994: 11).
(441) Шкловский называет «пробником» низкорослого и малопородистого жеребца, который разогревает кобылу перед тем, как к ней для случки подпускают заводского жеребца-производителя. Роль пробников в русской истории, по мнению Шкловского, сыграла русская интеллигенция, «вся русская литература была посвящена описаниям переживаний пробников. Писатели тщательно рассказывали, каким именно образом их герои не получили того, к чему стремились» (Шкловский 1990b: 186). Пробник, таким образом, обозначает ситуацию, когда результатами труда одного пользуются другие.
(442) См.: Бодрийяр 1994: 335. Развитие технических средств передачи изображения и расширение границ общественно допустимого приводит, по Бодрийяру, к неразрешимой двусмысленности: порнография через секс кладет конец всякому соблазну, но в то же время через аккумуляцию знаков секса она кладет конец самому сексу. Это происходит потому, что «реальное превращается в головокружительный фантазм точности, теряющийся в бесконечно малом», так как видео-порнография, по сравнению с литературной эротикой, добавляет дополнительное измерение пространству секса или пола, делает его более реальным, чем само реальное.
(443) В развитие темы можно вспомнить еще одно рассуждение Бодрийяра о воплощаемой в изображении секса «идее непреложной истины, которая уже несоизмерима с игрой видимостей и которую в состоянии раскрыть лишь какой-то сложный технический аппарат». Характерен вывод: «Конец тайны» (Бодрийяр 1994: 336).
(444) Как полагает Андрей Сергеев, «в наши дни существуют большая проза и малая проза, а категории „роман“, „повесть“, „рассказ“ — это достояние отошедшей эпохи. После того разгрома, который мы претерпели в XX веке, когда мы оглядываемся и пытаемся понять, что же случилось и что мы из себя представляем на текущий момент, то предпочитаем <���…> читать не конструкции, а реальные рассказы о реальных событиях в жизни реальных людей, названных собственными именами» (Сергеев 1996).
(445) Богдан Дземидок, объясняя причину, по которой не Европа, а Америка, и в частности Нью-Йорк, стала в Новое время художественной столицей мира, утверждает: «Общеизвестно, что наиболее неординарные и спорные художественные решения находят свое отражение в современной музыке и изобразительном искусстве, и потому, с определенного времени, Европа перестает играть ведущую роль в этом отношении» (Дземидок 1997: 5). Симптоматично, что для Дземидока областью применения радикальных экспериментов является изобразительное искусство и музыка.
(446) Гудков & Дубин 1994: 157.
(447) См.: Inglehart 1997.
(448) Ср. с утверждением Хабермаса о том, что все действия в современном обществе координируются при помощи таких средств управления, как деньги (на рынке) и власть (в государстве). См.: Habermas 1984b. Это совсем не означает точного соответствия значения действия и его стоимости на рынке, но именно рынок, как посредник между различными ценностями, является единственно легитимным общественным инструментом.
(449) Картину читательских пристрастий могут проиллюстрировать данные, полученные на основе изучения читательских формуляров библиотеки при «Невском обществе устройства народных развлечений» за несколько лет в конце 1890-х годов. Количество требований разных книг за этот период дает представление о популярности различных писателей: Л. Толстой — 414, Майн Рид — 399, Жюль Берн — 381, С. Соловьев — 266, Вальтер Скотт — 290, И. Тургенев — 256, Н. Гоголь — 252, Н. Некрасов — 209, Ф. Достоевский — 208, А. Пушкин — 136, М. Лермонтов — 56, А. Дюма, М. Твен, Г. Андерсен — от 30 до 50, А. Чехов, Д. Дефо, братья Гримм — от 10 до 30, А. Грибоедов, Т. Шевченко, В. Шекспир — менее 10.
Жанровые пристрастия: беллетристика — 9917, журналы — 878, география и путешествия — 850, история, общественные и юридические науки — 490, книги духовно-нравственного содержания — 367, естествознание и математика — 360, история литературы, критика, искусство, логика, философия, педагогика, психология — 124, промышленность и сельское хозяйство — 53, справочники, атласы — 39. (Жарова & Мишина 1992: 21–22).
Имея в виду, что услугами Невской библиотеки пользовались большей частью рабочие и представители средних слоев общества, можно предположить, что у читателей с более высоким образовательным уровнем предпочтение в пользу «серьезной» литературы над «развлекательной» было более впечатляющим.
Читать дальше