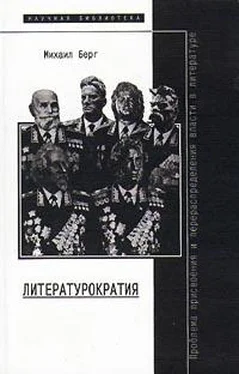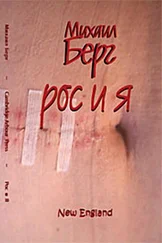(322) По замечанию В. Кривулина, существенный момент, отличающий ленинградскую поэзию от московской, — это подчеркнутая спиритуальность. «Ленинградская школа в принципе очень спиритуальна, независимо от того, идет речь, скажем, о дадаизме или символизме. Постоянно присутствует какая-то особая спиритуальная настороженность в отношении к слову» (пит. по: Кулаков 1998: 371). Спиритуальность ленинградской поэзии — частный случай апелляции к зоне власти репрессированной религиозности.
(323) Шварц использует здесь мотивы повести о Соломонии Бесноватой. См.: Повесть о Соломонии 1991: 177–198, а также Питан 1998.
(324) См.: Шварц 1993.
(325) См.: Смирнов 1994: 166.
(326) См.: Там же: 161.
(327) Говоря о связи шизоидности и нарциссизма в постмодернистской культуре, Смирнов также пишет о том, что постмодернизм в этом плане родственен символизму, прокламировавшему свою истерическую природу: отчуждающий психотип, создававший обе эти культуры, отчуждает в конечном счете и собственную психотипичность и тем самым добывает возможность открыть себя в создаваемом продукте (см.: Смирнов 1994: 320).
(328) Ср. утверждение В. Кушева, что поэзия Шварц, подпитываясь из неких «глубинных центров», строится как петля. «Собственно, это и есть определение большого поэта. Тогда поэзия осуществляется как петля: она уводит и вновь возвращает к этим центрам. Поэт может не нравиться читателю в плане выражения, в плане выдвигаемых идей, но само наличие постоянной темы, её разработка, творческий метод — возвращение, петля — это и есть, как я полагаю, характеристика настоящего поэта» (Кушев 1982: 245–257). Иначе говоря, «настоящим» оказываются только «глубинные центры» или зоны власти, постоянно апеллируя к которым, автор обеспечивает легитимность своей практики.
(329) Эпштейн 1988: 198.
(330) Зубова проводит анализ стихотворения Миронова «Я перестал лгать…» и приема редукции, соотносимого с понятием редуцированного гласного и с утратой редуцированных в истории русского языка:
Я перестал лгать
гать
ать
То
!
(Миронов 1993: 7)
Зубова фиксирует, как слово «лгать» все более и более сокращается, пока не остается одна буква — бывший редуцированный «Ь», — которая в современном языке звука уже не обозначает. «Модель утраты гласности в этом тексте — не пустая игра слов, а выражение этики и философии поведения, выражение жизненной позиции индивидуума, противостоящего миру лжи и вынужденного замолкнуть в этом мире. Поэт как воплощение речи отождествляется со знаком, утратившим смысл: Я стал непроизносим. <���…> Стихотворение невозможно произнести полностью. Строка, состоящая из мягкого звука, прочитана вслух быть не может, однако именно после [ь] стоит восклицательный знак (автор предлагает читателю этот мягкий знак воскликнуть!). Интенция чтения заставляет сделать некоторое артикуляционное движение в попытке все-таки произнести [ь] (напомним, что в древнерусском языке это был сверхкраткий звук). Эта попытка заранее обречена на неудачу. Читатель, делающий собственное телесное усилие, внутренним жестом как бы повторяет попытку поэта сказать вслух и быть услышанным. Таким образом, в тексте запрограммировано физическое сопереживание читателя духовному опыту поэта» (Зубова 1998: 92–93).
(331) См.: Стратановский 1993d.
(332) M. Шейнкер, назвавший Филиппова «коллективным бессознательным „второй культуры“», имел в виду, что практика Филиппова выявила скрытые комплексы ленинградского андеграунда, в том числе по поводу конкуренции со стороны московского концептуализма. См.: Филиппов 1998.
(333) По Айзенбергу, упрекнуть стихи Кривулина можно только в том, что они совершенно «ленинградские». «Но и это качество вещи последних пяти — семи лет как-то переросли. Кровно принадлежа школе, поэт сумел не остаться в ней целиком. Природная умственность, прежде несколько аморфная, стала отчетливой <���…>. Оказалось, что стихам достаточно того, что они умны и хорошо написаны» (Айзенберг 1997: 85). Похвала автору за то, что его стихи «переросли школу», напоминает достаточно распространенное в советском литературоведении убеждение, что «большому поэту» всегда тесны рамки направления, которому он принадлежит. Зато похвала типа «стихи умны и хорошо написаны» — не что иное, как приметы традиционной ориентации. Только внутри традиции можно «хорошо писать», то есть «писать» в соответствии с правилами канона. Как только сам канон теряет авторитетность, нелегитимными становятся и правила, что косвенным образом подтвердил и сам автор (см.: Кривулин 1996: 261).
Читать дальше