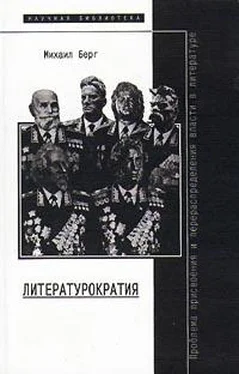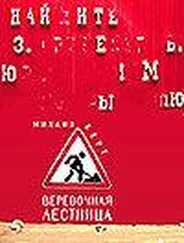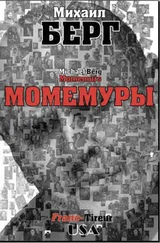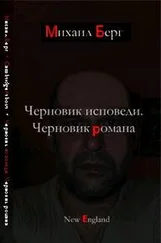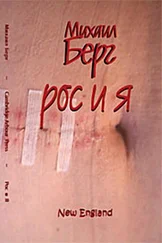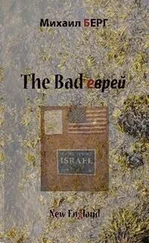(290) Ср. замечание Липовецкого по поводу диалога с хаосом как принципиальной составляющей художественной стратегии постмодернизма: « Диалог с хаосом — так можно обозначить эту художественную стратегию, предполагая, что именно с развитием этой стратегии связаны важнейшие открытия литературного постмодернизма и что именно эта стратегия разграничивает модернизм и постмодернизм» (Липовецкий 1997: 43). Однако то, что диалог с хаосом, как элемент поэтики, присутствовавший уже в модернизме, только в постмодернизме приобрел характер одного из главных принципов художественного моделирования, представляется слишком смелым утверждением.
(291) Объекты страха (объекты опасности) — это то, что в первобытных обществах и было табу. Табуировалось то, что могло привести к гибели человека, и переступить табу означало покончить жизнь самоубийством. Подробнее см.: Смирнов 1999а: 48–49.
(292) О разнице восприятия хаоса (взрыва) в русской (бинарной) и западноевропейских (тринарных) культурах писал Лотман, опираясь на теории Пригожина и Стенгерс (Пригожий & Стенгерс 1994). В тринарных культурах взрыв (в виде религиозно-социальной утопии Кромвеля или якобинской диктатуры) охватывает лишь ограниченные сферы жизни. «Для русской культуры с ее бинарной структурой характерна совершенно иная самооценка. Даже там, где эмпирическое исследование обнаруживает многофакторные и постепенные процессы, на уровне самосознания мы сталкиваемся с идеей полного и безусловного уничтожения предшествующего и апокалиптического рождения нового» (Лотман 1992: 268). Русский максимализм — естественное тяготение к одному из двух полюсов. Взрыв приводит к отрицанию настоящего во имя будущего, которое оказывается тождественным прошлому. Поэтому неприятие хаоса есть следствие бинарной структуры русского самосознания. Границу между структурированным и неадаптированным хаосом обозначает, например, хрестоматийно известная строка Пушкина «тьмы темных истин нам дороже нас возвышающий обман». «Обман» здесь синонимичен процессу культурной адаптации. Последствия многогранны. Скажем, интерпретация ГУЛАГа Шаламовым куда менее популярна, чем интерпретация Солженицына, потому что Солженицын, описав никак не меньшее по объему зло, объяснил, что все беды России от коммунизма и большевиков. А для Шаламова все беды человека от человека. О роли триад в культуре см.: Иофе 1998: 205–212.
(293) Ю. Хабермас выделяет эмансипаторский (освободительный) интерес, регулирующий властные отношения в обществе и соответствующий попыткам освободиться от гнета институционального воздействия общественных норм (у Хабермаса — «угнетающих структур и общественных условий»). См.: Habermas 1972.
(294) Ср. замечание Айзенберга об автобиографичности Харитонова: «Внятность, открытость письма были так оглушительны, что не возникало никаких сомнений в личном характере переживаний» (Айзенберг 1997: 198). «Условность здесь так сильна, что временами текст кажется безусловным, слова — непреднамеренно сказанными, словно перед нами личный дневник» (Климонтович 1993: 226). Иначе говоря, Харитонов предлагает правила игры, в соответствии с которыми ненормативность легитимирует правдоподобие.
(295) Для H. Климонтовича все в практике Харитонова, «от виртуозного владения синтаксисом до понимания психологических нюансов», имеет целью создать иллюзию правдоподобия игровыми способами. Именно поэтому проза Харитонова «читается как отчет о пережитом им, как записная книжка», хотя любая ситуация здесь «преображена, спедалирована или замутнена, утаена наполовину или рассказана с той детальной откровенностью, которой сама истовость не позволяет оставаться правдой» (Климонтович 1993: 226).
(296) О влиянии пантомимической практики на прозу Харитонова писал не только Климонтович. М. Айзенберг также отмечает, что в прозе Харитонова «за словами маячил какой-то выразительный, но безмолвный жест» (Айзенберг 1997: 198).
(297) О власти, в основе которой лежит кодекс «благородного поведения», см.: Habermas 1984b: 18.
(298) О социокультурных позициях различных субкультур см. одно из первых и подробных описаний современных субкультур в: Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга 1999.
(299) Как пишет В. Иофе, наиболее радикально этот процесс проявился в трансформации ранее закрепленного за государством «права на убийство». Если в европейской культурной традиции «право на убийство» было закреплено за взрослыми мужчинами, нормировалось писаными и неписаными кодексами поведения (военный кодекс, офицерский, корпоративный дворянский и т. д.) и было табуировано для всех остальных членов социума, то сначала борьба за женскую эмансипацию привела к присвоению права на убийство женщинам (аборт, право на службу в армии), а затем размывание возрастных ограничений привело к всплеску молодежной и детской преступности. См.: Иофе 1998: 20.
Читать дальше