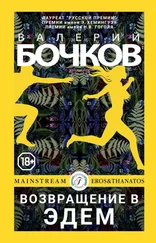Радищеву не откажешь ни в наблюдательности, ни в умении подбирать детали, ни в способности к глубокомысленным метафорам. Нет одного, чем все эти необходимые качества собираются в художественное целое, — литературного дара. «Путешествие» скорее памфлет, чем роман; больше напоминает политический трактат, несмотря на удачные в литературном отношении страницы, которые, впрочем, походят на маскировку (возможно, вопреки авторским намерениям) политических взглядов.
Во всем романе лишь несколько эпизодов главы «Спасская Полесть» можно рассматривать как утопию. Радищев пользуется испытанным приемом — сном (разновидность путешествия). Речь идет об идеальном монархе, волей которого благоденствие разливается по всей стране и который помышляет о завоевании «земли, целым небесным поясом от меня отделенной» [15] Радищев А. Н. П утешествие из Петербурга в Москву. М., 1987. С. 66.
.
Метафора допускает, что помыслы этого монарха носят едва ли не межпланетный характер, что согласуется с упоминавшейся чертой русской литературной утопии — ее глобализмом. В XIX и XX столетиях этот признак сделается постоянным, и его вернее называть космизмом. Если даже не придавать метафоре Радищева «космического» смысла, на который наводят слова «небесный пояс», то «глобализм» очевиден. Идеальный монарх повелевает своему флотоводцу: «Да корабли мои рассеятся по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, на Востоке, Юге и Западе» [16] Там же. С. 67.
.
Можно было бы отнестись к этим словам как выражению индивидуальных пристрастий автора, вплоть до мономании, однако вот что писал Ф. И. Тютчев в стихотворении «Русская география» (1848 или 1849):
Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Последняя строка стихотворения буквально повторяет слова Радищева, и коль скоро два таких во всем разных писателя совпадают нечаянно в таком, пусть второстепенном, признаке, есть повод говорить о том, что этот признак выражает, вероятно, некую устойчивую черту мировоззрения, определенную «глобализмом». Поэт, вопрошая о границах царства, формой вопроса подталкивает к ответу: такими границами являются контуры земного шара по четырем географическим направлениям — разве это не располагает говорить о глобализме, перерастающем в космизм в утопиях XX столетия?
«Глобализм/космизм» помечены противоположными, но, в сущности, одинаковыми знаками. Суждения о благе человечества («на север, на восток, на юг и на закат» — это и есть весь мир, «интернационал», употребляя позднюю лексику), независимо от воли авторов, приводят к всечеловеческой же катастрофе: устройство всего мира на фундаменте одного принципа, каким бы тот ни был, есть именно катастрофа, ибо ведет к уничтожению разнообразия, среди которого живут народы. То общее, что существует у них, не может служить поводом к распространению видовой общности там, где разнообразие — столь же необходимая предпосылка (как и общность) видового существования.
Либо глобальное благо, либо глобальная катастрофа — полюсы русского литературного утопизма, между которыми нет ступеней, допускающих теоретическую вероятность постепенного движения.
«Катастрофой» предположено всеобщее разрушение. Не важно, что его инициаторы имели в виду посредством разрушения, так сказать, «расчистить место» новому и, конечно, справедливому порядку. Упор сделан на разрушении, оно является динамической силой, тогда как созидание, во имя которого рушится былое, становится такой далекой задачей, что его перестают учитывать.
Этот губительный глобализм усматривается в сочинении А. Н. Радищева, исходившего из самых благих побуждений в проекте реконструкции существующих социально — политических отношений. Неудача проекта объяснима изначальным (свойства мышления автора) расчетом бытия не по отдельному человеку, а по некой собирательной общности: народ, нация, государство, собратья по вере. Все проекты русских утопистов XVIII столетия исходили из данных условий, хотя жанр утопии допускал именно этих условий не брать во внимание.
К монарху из радищевской утопии является истина в облике суровой женщины, просто одетой, и снимает с его глаз пелену, скрывающую подлинный вид вещей. Монарх зрит свою неправоту, лицемерие и лживость окружающих, обман и коварство придворных. «Отвратил я взор мой от тысящи бедств, представившихся очам моим». «Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился» [17] Там же. С. 70, 72.
.
Читать дальше
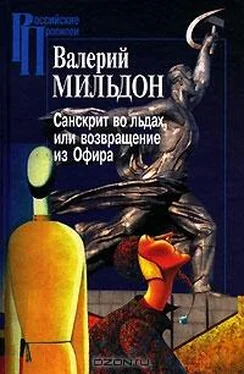

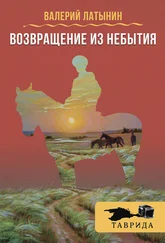

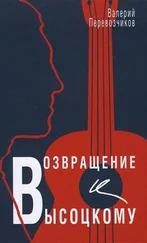
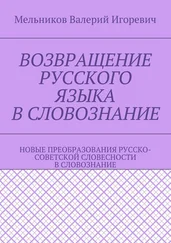
![Валерий Быков - Инженер Ч5. Возвращение [СИ]](/books/419518/valerij-bykov-inzhener-ch5-vozvrachenie-si-thumb.webp)