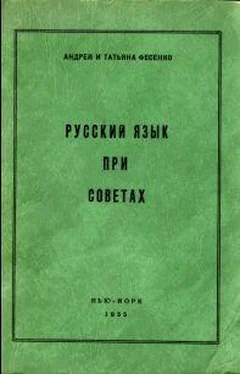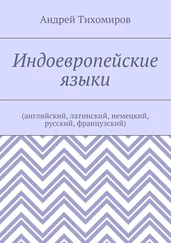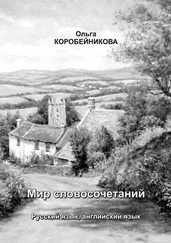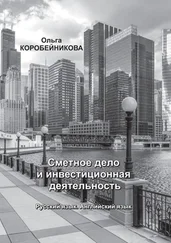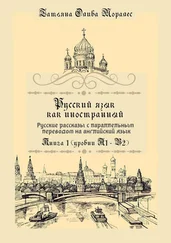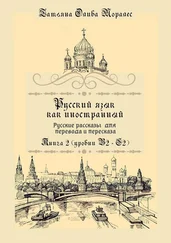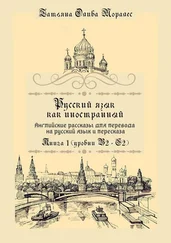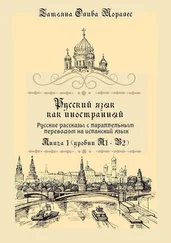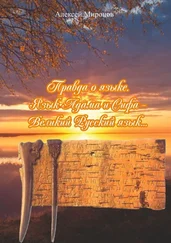– Я была в одном эвенском колхозе… Там эвены. Я их сначала путала с эвенками, но, оказывается, это совсем разные народности. Эвенков раньше называли тунгусами. Они кочевали по Восточной Сибири – от Енисея до Охотского побережья. А эвены – ламуты. На их языке Охотское море называется Ламским морем.
[31]Аналогичное явление отмечено и К. Державиным в упоминавшейся выше статье о языке Великой Французской революции (стр. 38):
«…Бойкотируются и уничтожаются даже такие слова… как chateau, castel, chatel, chatillon. Топонимика революции пестрит примерами бойкота и вытравления слова saint… Городок Saint Lo переименовывается в Rocher de la Liberte, селение Sainte Mere-Eglise в Mere-Libre».
[32]Беспризорничество снова возродилось в годы Второй мировой войны и непосредственно после нее.
[33]Любопытно, что влияние войны на язык детей отмечено и Е. Кригер в статье «Суворовцы» (Известия, 28 июля 1945):
«Влияние войны и связанных с нею невзгод сказывается, к сожалению, и в другом. У мальчиков был перерыв в учебе. Они скитались из города в город, были в эвакуации, и не всегда у родителей хватало времени следить за правильным развитием детей. У многих речь страдает погрешностями против законов русского языка, она неряшлива, отрывиста, перегружена лишними словами».
[34]Почти теми же словами говорит через 25 лет и Федор Гладков в уже цитированной нами выше статье «Об одном позорном пережитке»:
«Хулиганство и озорство в разных видах часто воспринимаются подростками и молодежью, как выражение смелой независимости, как задор и молодечество».
[35]Со словом «мильтон», в свою очередь, связана классическая фраза – «Граждане, давайте не будем!», – настолько характерная для советского милиционера, что она даже послужила названием фельетона братьев Тур (Известия, 21 мая 1937), в котором, между прочим, говорилось:
«…прибыли четыре милиционера. Поминутно козыряя и приговаривая свое излюбленное «Граждане, давайте не будем!», они оттеснили публику от двери…»
Здесь небезинтересно проследить, конечно, не осмысленное, не намеренное, но всё же «смягчение нравов»: «Даешь!» – грубый окрик первых лет Революции, призывавший не так к порядку, как к грабежу и насилию (а иногда и к политической агрессии – «даешь Европу!»), постепенно переходит в грубовато-увещевательное, еще во втором лице, «давай, давай!» или просто «давай…» (в единственном числе) с соответствующим глаголом, как, например:
– Давай веди огонь! (Симонов, Избранное, 336)
и наконец, расплывается в претендующее на вежливость «давайте не будем!»:
– Душевно убеждаю вас, как председатель, давайте не будем! (Леонов, Избранное, 538).
Последнее выражение стало настолько распространенным, что даже послужило названием литературного сборника:
Альманах, который называется «Давайте не будем!»… нацелен против бюрократизма, приспособленчества, протекционизма в литературной среде… (Лит. Газета, 13 апреля 1954).
[36]Подобная полисемия характерна и для чисто уголовного арго. Так, напр., всем известно переосмысление в тюремном языке (еще задолго до революции) женского уменьшительного имени «Параша». В своем «Словаре Соловецкого условного языка», Н. Виноградов дает следующее доосмысление данного слова: «Параша, ши, ж. Вздорный слух, неправдоподобная новость».
В подобном значении употребляется это слово и в рассказе Б. Филиппова «Курочка» (сборник «Пестрые рассказы», Ныо-Иорк, 1953, стр. 370):
Новости, именуемые в тюрьмах и лагерях «радиопарашами», все были невеселые и тусклые.
[37]В последнее время распространились и выражения: «Он ездит на ЗИС’е», или «Он пользуется ЗИС’ом», где популярная марка автомобиля является зашифровкой фразы: «Знакомства и связи».
[38]Ю. Марголин, в книге «Путешествие в страну зэ-ка», стр. 321, высказывает интересное предположение о происхождении этого слова:
«По блату» было, очевидно, еврейского происхождения. «Blate» на языке Библии и Бялика значит «в тишине, потихоньку».
[39]Забуреть – зазнаться, заважничать. – Ф .
[40]Краткое руководство къ краснор?чiю, 1748.» 1, стр. 3.
[41]Можно отметить, что «аст» является излюбленным суффиксом Маяковского.
[42]Здесь уместно привести слова С. Ожегова («Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 32):
«За последнее десятилетие, отчетливее, чем за все предыдущие периоды нарождается новая закономерность в использовании современным общенародным языком и, главным образом, в стилях публицистической, ораторской и художественной речи, языкового наследия прошлого. Старые слова и выражения вовлекаются в живую ткань
Читать дальше