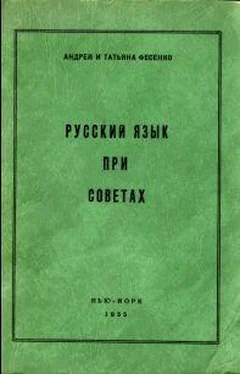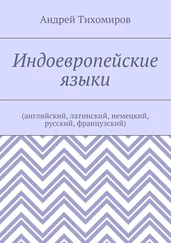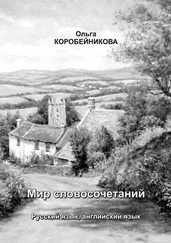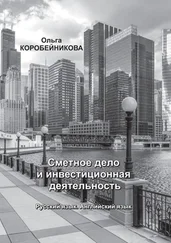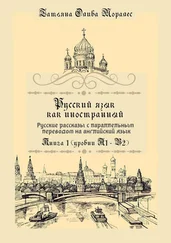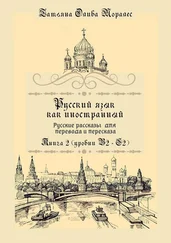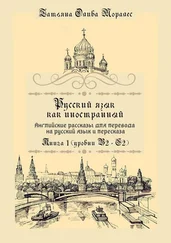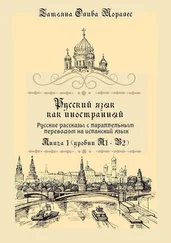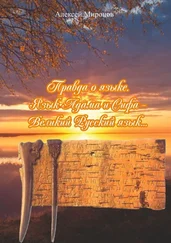[8]Это в свое время было отмечено в пражском журнале «Slavia» Л. Успенским в его статье «Русский язык после революции»:
«Уже в 1923 году деятелями советской прессы была замечена малая доступность их продукции пониманию рабочего и крестьянина. Разница в языках «руководящей верхушки» и «широкой массы» оказалась столь резкой, что стала грозить самой возможности сгладить ее в будущем…» (т. 10, 1931, вып. 2, стр. 256).
[9]«Однако, – здесь же оговаривается Н. Задорнов, – я глубоко убежден, что язык наш далек от того, чтоб обеднеть, в массах он очень ярок, образен, сочен и звучен. В народной речи, как в зеркале, отражается вся жизнь страны».
[10]Любопытное мнение о якобы революционном языке высказал Е. Поливанов («За марксистское языкознание», стр. 169), усматривавший именно в революционной фразеологии общность ее с архаичными церковно-славянизмами:
«…Трафаретные выражения, фразеологическая рутина вроде «хищных акул империализма» и «гидры контрреволюции» – вот что является, по моему мнению, славянским языком революции и заслуживает этого названия, ибо по безжизненности и недвижности своей эти «акулы» и «гидры» вполне сравнимы с церковно-славянскими речениями в церковном языковом обиходе».
[11]Уже упоминавшаяся А. Бэклунд правильно отмечает на стр. 12, что «это был язык коммунистического актива и подрастающего поколения – особенно комсомола…»
[12]Так, новые здания Московского университета на Воробьевых горах именуются «Дворцом науки».
[13]Я. Фоменко в своей статье «Лед не тронулся» (Литературная Газета, 18 мая 1954) жалуется на то, что «уж очень многие факты и жизненные явления наши публицисты именуют «историческими», «небывалыми», «выдающимися», «эпохальными»…
Даже в чисто грамматическом отношении советский гиперболизм нашел свое характерное отображение во всё более интенсивном распространении превосходных степеней прилагательных: «первейшая задача», «почетнейшее задание», «ярчайший пример» и т. д.
[14]Данные примеры свидетельствуют о смешении в новой сельскохозяйственной терминологии русских и иностранных элементов, причем мы видим, что последние часто выступают как лексоморфемные (агро-указания, хата-лаборатория) так и чисто морфемные (озимизация, яровизация).
О проникновении в сельскохозяйственную лексику иностранных элементов говорил и проф. Ф. Филин, правда в «космополитическом» духе, который тогда еще не осуждался:
«…наиболее показательным для бурного развития языковой культуры нашей деревни является широкое распространение иностранных слов, подготовляющее почву для единого мирового языка, который будет создан». (Новое в лексике колхозной деревни, Диалектологический сборник, Вологда, 1946).
[15]Все наименования, кроме первого, употреблялись в неофициальной речи. Последнее же преобразование МГБ в КГБ – Комитет государственной безопасности – пока не дало производного.
[16]См. Розанов, Завоеватели белых пятен, стр. 231:
«Ежов выполнил свою задачу доведения террора до крайних пределов, после чего был «убран». Политбюро ЦК ВКП(б) свалило на него ответственность за безоглядочные (!? – Ф.) репрессии, подсказав народу словечко «ежовщина».
[17]Сюда же примыкают неофициальные названия принудительных работ – «принудиловка» и лица, приговоренного к ним, «принудиловец».
[18]О подобных эвфемизмах упоминается в статье К. Державина «Борьба классов и партий в языке Великой Французской революции», стр. 54:
«Вместо ‘a mort’говорили ‘elargissez’, ‘a l’Abbey’, ‘a Coblentz’. Обезглавление именовалось термином ‘la detruncation’».
[19]За постепенным возвращением в литературный обиход многих изъятых в первый период Революции слов, последовало теоретическое обоснование подобного явления лицемерной ссылкой на якобы нейтральность их (при том, что несколькими годами раньше они клеймились как атрибуты «классового» общества). Подобную «реабилитацию» изгнанной в свое время терминологии находим у С. Ожегова в его статье «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 32:
«…условия нашей общественной жизни позволили возродить целый ряд тех старых терминов, которые были нейтральны по смысловым оттенкам по отношению к создавшей их надстройке и которые по своей терминологической четкости (одно слово, а не сочетание) удобно было использовать в условиях социалистической государственности нашего периода («директор», «советник», «министр», «адвокат», «солдат», обозначения различных военных званий и т. п.)…»
Читать дальше