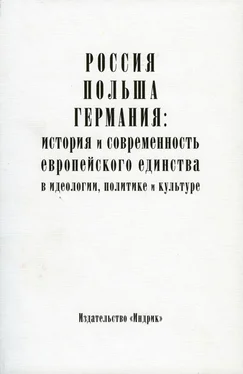Только через призму примера Ягайло можно понять кажущуюся наивной уверенность публицистов, в частности Мыцельского и Фредро, что цари – тираны для своих исконных подданных – не только не нарушат свободу польской шляхты, но даже расширят ее привилегии, обуздают произвол магнатов подобно тому, как Иван IV сокрушил могущество боярства. Авторы полагали, что избранный королем московский кандидат будет опираться на шляхту и сможет провести судебные и административные реформы, необходимые для усовершенствования управления обоими государствами.
Основываясь на прецеденте Люблинской унии 1569 г., польские публицисты рисовали заманчивые картины «тройственной унии» трех монархий – польской, литовской и русской, равной по могуществу ас сирийской и византийской державам и Римской империи. Такое государство простиралось бы «от моря – до моря» (от Каспия – до Северного моря [373]). Только в этом контексте можно правильно истолковать стереотипный перечень «выгод» от польско-русской унии, приводимый в проектах как конца XVI в., так и первой половины XVII в.
Рассмотрим аргументы авторов в пользу «тройственной унии» в порядке частоты их применения в источниках. Во-первых, возвращение Речи Посполитой территорий, отторгнутых от нее и присоединенных к Московскому государству (так называемых авульсов). В этом случае царь возвращал бы их некоторым образом «сам себе», например, как княжество, пожалованное своему сыну и на ленном праве присоединенное к Речи Посполитой (подобно Прусскому княжеству). Во-вторых, устранение конкуренции Нарвы с Гданьском в балтийской торговле и развитие транзитной торговли через Литву. В-третьих; уния государств открывала бы перспективу унии православия с католицизмом. Начало могло быть положено переходом в католичество царевича как электора, а в дальнейшем – вероятно, и его подданных. В-четвертых, создавалась бы возможность приобретения польской знатью как более цивилизованными и достойными подданными исключительного влияния при московском дворе. В-пятых, уния с Москвой давала шанс на восстановление былого военного могущества Речи Посполитой. В этом случае царь давал бы деньги (nervum belli) на содержание объединенных вооруженных сил и выставлял бы пехоту, а поляки – конницу. Это позволило бы не только обеспечить общую безопасность, но и дало бы возможность совместного наступления на турок и татар [374].
Все эти выгоды носили экономический, а не идеологический характер. Трудно усмотреть в них проявление польского экспансионизма. Ныне они кажутся нам абстрактными, а история показала их нереальность. Такими же их видели и современники, объяснявшие это, прежде всего, двумя причинами. Первая заключалась не только в статусе православия как государственного вероисповедания в России времени царя Алексея Михайловича, но и в том, что Святой престол и польские епископы априори исключали кандидатуру московского правителя на польский трон. Вторая причина основывалась на благоразумной осторожности, ибо нельзя было поручиться, что избранный польским королем русский царь сохранит в неизменном виде общественный и политический строй Речи Посполитой.
Русско-польская уния означала бы на практике поглощение Речи Посполитой Россией, превращение «вольной элекции» (свободного избрания короля шляхтой) в пустую формальность и de facto преобразование польско-литовского государства в наследственную монархию и навязывание польской шляхте «московской неволи», а отнюдь не приобщение московского дворянства к польским шляхетским вольностям. Такие возражения настойчиво выдвигались противниками «тройственной унии» – начиная с Яна Димитра Соликовского во время первого бескоролевья [375]и кончая великим коронным канцлером Стефаном Корыциньским [376]и подканцлером Стефаном Ольшовским [377]при Яне Казимире. История подтвердила правоту критиков проекта «тройственной унии».
Рассмотрение «альтернативного» варианта развития в истории подчас является инспиративным, и все же напоминание о проблеме «тройственной унии» представляется важным для понимания сущности федерализма как устойчивого феномена польской политической идеологии со времени Люблинской унии и вплоть до двадцатилетия между Первой и Второй мировыми войнами. Вопрос о характере и степени преемственности идеи федерализма на разных исторических этапах, разумеется, может вызывать дискуссию, подобно тому как, с точки зрения канонов классического историзма, может представляться абсурдным, несмотря на бросающиеся в глаза аналогии, сравнивание территориальных пределов Сарматии XVII в. с концепциями некоторых мыслителей славянофильского толка в XIX в., например Н.Я. Данилевского [378]. Однако в сравнительных исследованиях по истории политических идей в Польше и России подобное обращение к воззрениям раннего Нового времени может оказаться не только интересным, но и полезным, в частности, для преодоления стереотипов, хотя бы на страницах научных трудов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу