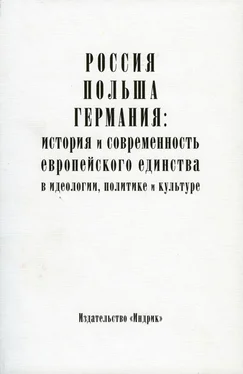Этот тезис подтверждается содержащимися в памятниках польской публицистики характеристиками московских государей. В силу обстоятельств они относятся, прежде всего, к Ивану IV Грозному, поскольку большинство текстов на тему польско-русских отношений приходится на период первого бескоролевья. Вопреки приведенной выше самооценке поляков как представителей «свободного народа», что предполагало осуждение с их стороны деспотизма и жестокости царя Ивана, он произвел на них огромное и вовсе не негативное впечатление. Галерею образов Ивана Грозного в польской публицистике первого бескоролевья открывает латинская апология авторства Станислава Цесельского, приписываемая, однако, Станиславом Котом перу самого Анджея Фрыч-Моджевского. В этом сочинении Иван IV предстает как идеал доблестного правителя, славного во всей Европе [350].
На протяжении всего рассматриваемого периода «великий князь московский» в глазах польских публицистов представал государем богатым («денежным»), хотя его иногда и упрекали в том, что эти деньги он получал от эксплуатации подданных [351]либо как субвенции от иностранных правителей [352]. Во времена первого бескоролевья он предстает не только как христианин, но в роли подлинного защитника всего европейского христианства от язычников [353]. Схизматиком, в глазах публицистов, русский царь парадоксально становится лишь во времена Алексея Михайловича, то есть именно тогда, когда латинское христианство начинает оказывать влияние на московское православие [354].
Наиболее часто в публицистике по отношению к московским правителям, и не только по адресу Ивана Грозного, употребляется термин «тиран», говорится, что они правят «absolute». Правда, с точки зрения польских публицистов времени первого бескоролевья методы правления московитов вполне сопоставимы с действиями западноевропейских монархов (например, Габсбургов), также грубо нарушавших права подданных. Тирания и жестокости Ивана IV, по мнению Петра Мыцельского, вынужденны, ибо обусловлены невежеством подданных, с которыми царю приходилось бороться, «как с медведями или с другими бестиями». Злодеяния царя совершены открыто и под давлением обстоятельств, поэтому они более простительны, чем тиранство французского короля Карла IX, который, хотя и пишется christianissimus rex, но во время Варфоломеевской ночи не только проявил себя как тиран, но и прибег к обману [355]. Ввиду того, что «старых» царей московитов трудно было бы отучить от тиранства, сторонники польско-московской унии, как правило, отдавали предпочтение их сыновьям, которых можно было бы подвергнуть своего рода «ресоциализации» и привить им польские обычаи и культуру [356]. К преимуществам московских кандидатов на польско-литовский трон относилась также близость польского и русского языков [357], дающая им превосходство над кандидатами из стран Западной Европы. Вместе с тем только в единственном и исключительном случае со Лжедмитрием I в пропаганде сторонников унии указывалось на «славянскую общность» польского и московского народов [358].
Парадоксально, что именно «цивилизационная неполноценность» москвитян и их государей становилась, по мысли польских публицистов, одной из предпосылок унии, которая должна была бы дать московскому обществу шансы научиться лучшим, польским обычаям и польским свободам. Сторонники унии как во время первого бескоролевья, так и в царствование Яна Казимира были убеждены в «обучаемости» москвитян, в их способности воспринять благодатное влияние польской цивилизованности, что обосновывалось близостью языка и обычаев двух народов. Анджей Максимилиан Фредро [359]даже полагал, что избрание московского царевича на польский престол или брак короля Яна Казимира с русской царевной после смерти Луизы-Марии Гонзаго послужили бы преградой для «западной испорченности». В подобных воззрениях нетрудно усмотреть проявление польской мегаломании или наивных благих пожеланий. Однако, по нашему мнению, они заслуживают внимания как свидетельство отсутствия априорных предубеждений, как доказательство, что возможное сотрудничество поляков и русских отнюдь не отвергалось.
У истока взаимных предубеждений «ляхов и москалей» (по определению Анджея Кшеминьского) лежат, конечно, события Смутного времени и польской военной интервенции начала XVII в. Захват поляками Кремля стал событием, которое в начале XIX в. Н.М. Карамзин [360]расценил как унижение России, а его отвоевание в 1612 г., представленное уже в наши дни как символ «народного единства», ознаменовано государственным праздником.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу