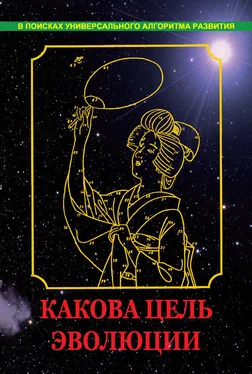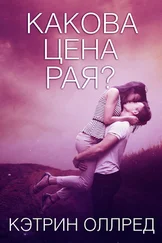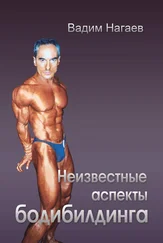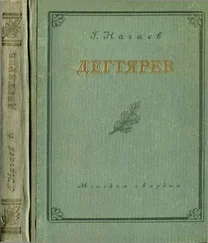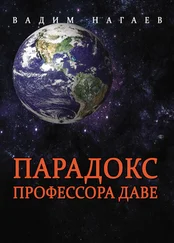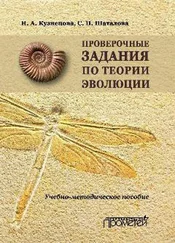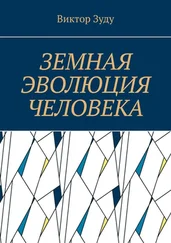Здесь возникает еще один вопрос: а является ли вообще нравственность объектом, обладающим структурой и присущими этой структуре более простыми элементами? И если такая структура у нее имеется, то не сможем ли мы, препарируя ее слой за слоем, добраться до этой самой сокровенной сущности?
Однажды великий Сократ, беседуя со своими учениками, разделил доску на две части: добро – зло. Ученики единодушно отнесли к добру храбрость, благородство, честность, а к злу обман, трусость, предательство и т. д.
Тогда Сократ поставил вопрос: «Если в трудный момент боевых действий, чтобы подбодрить солдат, полководец скажет: потерпите, воины, соберите силы и держитесь, к нам идет подкрепление – хотя никакой помощи он не ждал, то такой обман – добро или зло?»
Ученики заявили в один голос, что это добро.
Выходит, обман может быть и добром, и злом – заключил Сократ.
На этом наглядном примере древнегреческий философ указал на очень важное обстоятельство – основные категории нравственности оказываются в сложном взаимоотношении друг с другом. То, что сегодня было добром, завтра превращается в зло.
Такое же превращение происходит, если добро взять абстрактно, вне отношения к своей противоположности.
Но, даже находясь в прямом антагонизме друг к другу, эти категории способны к взаимопревращению при изменении жизненных обстоятельств.
В своем примере Сократ угодил именно в эту сокровенную сущность. Нравственность не есть набор правил поведения, образующих ее структуру.
Это очень специфический механизм, управляющий взаимоотношениями между людьми, механизм, работающий только в движении, в конкретных поступках.
Она не отделима ни от сознания человека, ни от той социальной среды, в которой он находится, и, подобно гипотетическому теплороду, вездесуща и неуловима.
Для того чтобы не потерять логические ориентиры и не заблудиться в предмете, который И. Кант сравнил со звездной бездной, вернемся к тем конкретным задачам, которые нравственность должна решать на социальном уровне движения материи.
Еще раз начнем с того, что нормы морали и нравственности являются неотъемлемыми потребностями любого государства, в том числе и тоталитарного.
Но с другой стороны, эти нормы находятся в противоречии с личными интересами каждого отдельно взятого человека. В самом деле, любой поступок, любое действие, совершаемое в соответствии с нормами морали и нравственности, требуют от человека определенных жертв. Человек должен жертвовать своими интересами ради интересов окружающих его людей. Именно такое поведение каждого члена общества есть условие существования и развития последнего.
Итак, нравственность – это в первую очередь общественная потребность, поэтому любое человеческое общество, чтобы не развалиться, а нормально функционировать, должно иметь надежный механизм, обеспечивающий регулирование взаимоотношений между людьми.
Но вся сложность в том, что такой механизм не может быть механизмом давления и принуждения. Не может потому, что нравственными действиями человека являются лишь те, которые выражают его волю и желания, а не те, которые являются реакцией на внешнее принуждение или стремлением самоутвердиться, используя нравственность лишь как благообразную форму поведения.
Таким образом, одна из важнейших задач любого общества – сделать нормы морали и нравственности внутренней потребностью каждого его члена. И если оно не способно эту задачу решить, если моральные и нравственные ценности в нем преданы забвению, а главным мотивом в действиях и поведении его членов становится лишь удовлетворение личных потребностей, такое общество, на каком бы уровне экономического развития оно ни находилось, обречено на постепенную деградацию.
Каков же алгоритм решения столь важной задачи: как нравственные ценности, будучи общественными потребностями, способны переходить во внутренние потребности человека?
Такой переход является поэтапным. Еще в детском возрасте происходит знакомство с нравственными ценностями через категории добра и зла. На этом этапе представления о нравственных нормах и принципах имеют преимущественно эмоциональную, несознательную природу, они больше чувствуются, чем осознаются. Главный стимул в исполнении нравственных норм здесь – принуждение и убеждение.
Однако роль нравственности в детском возрасте этим не исчерпывается, она связана еще и с «очеловечиванием» психики ребенка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу