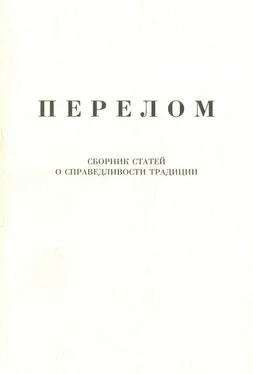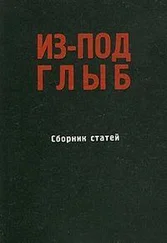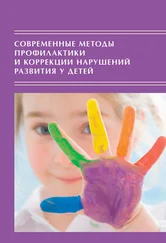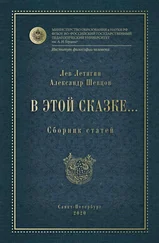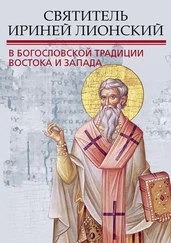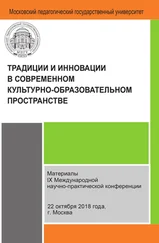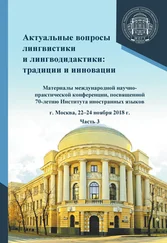Как известно, официальной идеологией, вложенной в том числе в уста «новых интеллигентов», у нас является «теория модернизации». Мы более или менее знаем, что это такое. Это нанофильтры в дополнение к ржавой нефтяной трубе. Это амнистия капиталов. Это деградация науки, армии и индустрии. Это реформация православия плюс секвестр всего на свете – бесплатного образования и медицины, пенсионного возраста, родительских прав. Ну и регулярное хождение на митинги.
Если опыт доведут до конца, все эти «ценности» новому гегемону придется принять, а затем заставить принимать и нас. Поэтому следует сказать несколько слов об их происхождении.
После развала СССР и упразднения истмата в статусе интеллектуально модных побывало множество общественных теорий. Теория тоталитаризма, конфликта цивилизаций, конца истории и проч. Не последнее место среди них занимает «теория модернизации». Суть её, если говорить коротко, заключается в следующем: развитые страны указывают менее развитым их путь. Менее развитые усваивают их идеологию и проходят их стадии развития – в общем, «модернизируются».
Возникла эта теория в 50-60‑е годы XX века и использовалась для контроля за бывшими колониями. Эти самые колонии, страны третьего мира, получили политическую свободу, но их нужно было вторично привязать к себе. Уже экономически. В период разрядки «теория модернизации» окончательно была признана несерьёзной и пропагандистской. Работы независимых исследователей показали, что метрополии вовсе не нуждаются в новых конкурентах и потому, используя свое влияние и финансовые инструменты, напротив, консервируют и тормозят развитие стран-аутсайдеров. Но после краха СССР «теорию модернизации» вновь вытащили из чулана, чтобы применить к новичкам из бывшего Восточного блока. Вот и вся разгадка. Вот с чем мы имели дело раньше и имеем сейчас. Вот с чем нам предстоит иметь дело в будущем.
Именно «новой интеллигенции» поручено закатать эту капсулу в «толстый-толстый слой шоколада», состоящий из гуманитарных ценностей. И эти люди будут служить нам моральным камертоном и являть чудеса гражданственности. А нам остаётся лишь наблюдать, удастся ли «новой интеллигенции» заставить власть вновь принять её на службу и бюджетный кошт.
По большому счёту со времён Петра Чаадаева интеллигенция занималась перетолковыванием европейской культуры, называя это «западничеством». Либо развивала идеологию правящего режима, называя это патриотизмом. А если режим был либеральным, то обе функции совпадали, являя собой наиболее полную картину общественной деятельности интеллигенции – отсюда пошло расхожее выражение «либеральная жандармерия».
Собственно говоря, государство в России, взятое в пределе, в своей высшей точке, – это и есть «либерализм» для верхов и диктатура для низов. Соединить обе сущности в одну и объяснить, что это и есть «модернизация», – вот главная задача, которую власть может поставить сегодня перед интеллигенцией, если в очередной раз призовёт её на службу. Этого-то и добиваются писатели, которые гуляют по бульварам и величают себя новой интеллигенцией.
Именно сейчас, когда интеллигенция уходит в прошлое, многое в её судьбе стало понятнее. Само понятие «российская интеллигенция» обнаружило свою местечковость и тавтологичность. Интеллигенция потому, кстати, и потерпела историческое поражение, что была явлением глубоко почвенным и провинциальным – вопреки своим зачастую ультразападническим взглядам.
В Европе, как известно, термин «интеллигенция» указывает просто на образованных людей, интеллектуалов и ничего более не означает. В России же он долго обозначал замкнутое в себе сословие с амбициями учителей нации и подателей благ мировой культуры. Между прочим, последнее обстоятельство решительно опровергает тезис самих интеллигентских вождей об интеллигенции как творческом сословии. Всё ровно наоборот. Европейские интеллектуалы именно что создавали пресловутые «духовные ценности», каждый на свой национальный лад. Российская же интеллигенция жила тем, что пыталась продавать на внутреннем рынке ценности, созданные этими интеллектуалами, но при этом не умела их как следует усвоить. То есть никакой интеллектуальной самостоятельностью она не обладала и приобретать её не собиралась. Она попросту гнала контрафакт. Творческая вторичность – вот её главная черта.
Таким образом, интеллигенция и весь её modus vivendi – явление сугубо местное, российское и глубоко почвенное. Никаких европейских аналогов оно не имеет. Поэтому чем бóльшими «западниками» считались те или иные интеллигентские группы (покажите мне хоть одного «западника» в Европе), тем бóльшими почвенниками они были de facto, не в обиду официальным почвенникам будь сказано.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу