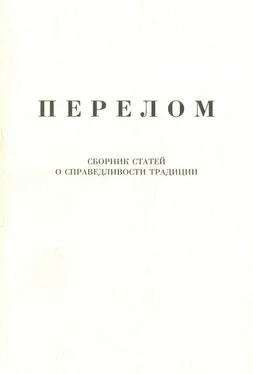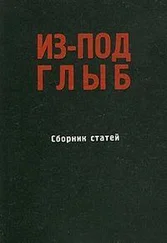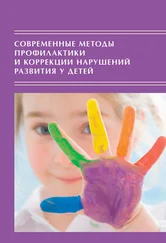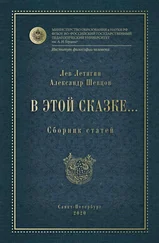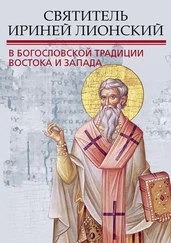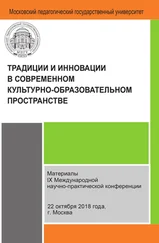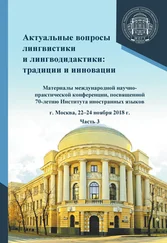Миф об оппозиционности.Торг с властью есть главная профессия интеллигенции. Она никогда не была оппозицией по-настоящему, но хотела быть при власти и иметь преимущественное право наставлять общество. Например, за право быть критиками власти при власти боролись в советское время «шестидесятники» и получили своё. Власти в то время понадобились «оппозиционеры». В такие периоды всё происходило в рамках консенсуса: интеллигенция всегда колебалась вместе с генеральной линией. Каждый такой медовый месяц с властью интеллигенция называла «оттепелью», а его прекращение – «заморозками».
Дело в том, что без опоры на власть функция самопровозглашённого общественного наставника невозможна: никто не станет слушать. Именно поэтому интеллигенция втайне очень любит власть. Сия любовь является важным условием её выживания. Это и есть главная тайна интеллигентского сословия.
Впрочем, иногда представители сословия «проговаривались», как это сделал однажды Михаил Гершензон, заявивший после выхода сборника «Вехи»: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех козней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной».
За эту фразу его заклевали. Гершензон вынужден был уйти из либерального «Вестника Европы». Но заклевали именно потому, что Гершензон случайно брякнул правду. Отношения в треугольнике «власть – интеллигенция – народ» полностью исчерпываются его формулой.
Миф о просветительстве.Интеллигенция чаще всего представляет себя сословием просветителей в дикой, отсталой азиатской стране. Говорили о просвещении народа, но фактически претендовали на роль нового дворянства. Особый статус – право «пасти народы», – по мнению вождей интеллигенции, должен был быть им обеспечен властью исключительно за их культурно-образовательный ценз. Чистейшее мессианство. Попутно заметим, что конечной целью введения ЕГЭ, платного среднего образования и сокращения вузов как раз и является выведение народа за рамки этого ценза.
Миф о свободе.Свобода не для всех, а только для себя – это уже не свобода, а привилегия. Именно так понимала свободу интеллигенция. «Права и свободы», а вернее привилегии, которых они требовали от власти, были, по сути, аналогом законов о вольности дворянства.
Допустим, у меньшей части интеллигенции после 1991 года появилось право печататься и говорить с телеэкрана. А в чём же тогда свобода остальных – свобода большинства, которое не издают и не пускают на телевидение? Это интеллигенцию отнюдь не волновало. Вот историческая аналогия, проясняющая дело.
Сюжет первый. После выхода указа о вольности дворянства крестьяне решили, что теперь должен быть указ о вольности крестьянства. Ходили слухи о том, что в южных губерниях уже дают вольную и дарят землю. Но время шло, указа всё не было. Крестьяне стали бунтовать, примкнули к казацкому восстанию Пугачёва. И заплатили за это жизнью.
Сюжет второй. После негласного указа о вольности интеллигенции в перестройку народ решил, что будет и указ о вольности народа. Поверил в перестройку, поддержал новую власть – Б. Ельцина и его команду, признал переворот 1991 года. Но на место ЦК пришла либеральная номенклатура, которая присвоила собственность КПСС и уничтожила индустрию. Протесты были подавлены войсками в 1993 году, а сами волнения объявлены сговором коммунистов и нацистов. Интеллигенция в 1993 году шумно поддержала власть, написав знаменитое позорное «Письмо 42‑х» с пламенным призывом «Господин президент, раздавите гадину!» (Б. Ахмадулина, Д. Гранин, А. Дементьев, В. Астафьев, Д. Лихачёв, Б. Окуджава, Р. Рождественский и др.). Делиться свободой интеллигенция не захотела.
Вообще, интеллигенция по своей природе предельно авторитарна. Называя себя «культурной прослойкой», «приличными» людьми, она любит вводить критерии пригодности: какие люди «рукопожатны», а какие – нет. Неслучайно большевики – интеллигенты в квадрате. Весь авторитаризм большевиков вышел из интеллигентской традиции – из идеи о цивилизаторской деятельности в отсталой стране.
В начале «нулевых» в Москве был открыт памятник интеллигенции. Выглядит он так: Пегас парит над абстрактной композицией из стальных шипов. Обычно памятники ставят либо посмертно, либо за особый статус при жизни. Этот памятник «самой себе» – то, строительством чего российская интеллигенция занималась на протяжении всей своей истории. Сегодня в этом памятнике явлены оба качества российской интеллигенции. Во-первых, она потерпела историческое поражение и умерла. Во-вторых, комплекс избранности, мессианизм интеллигенции и есть её памятник самой себе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу