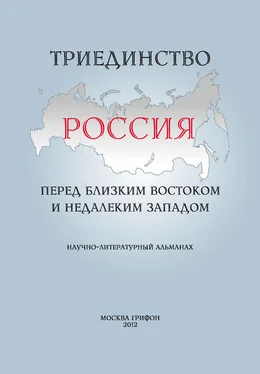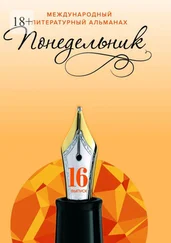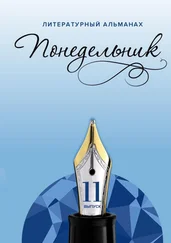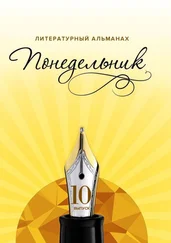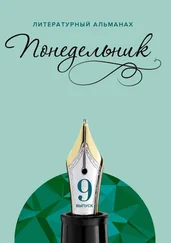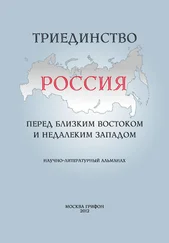«Старайтесь только, чтобы производство дела все было основано на бумаге, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке, старайтесь не то, чтобы оправдывать и защищать себя, – нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями…
Спутать, спутать и ничего больше, ввести в это дело посторонних, другие обстоятельства, которые бы запутали бы снова и других, сделать сложным – и больше ничего!» Гоголь определяет эту тактику словами: «Пустить в глаза мглу».
«Поверьте мне, – убеждает Чичикова «маг», – что, как только обстоятельства становятся критические, первое дело спутать. Так можно спутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое – и губернатора, и вице-губернатора, и полицмейстера, и казначея, – всех запутаю».
Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза «с наслаждением».
Высшее наслаждение для дьявола – порядок обратить в хаос, чистую воду – в «мутную». Мгла вместо солнца – таков пейзаж хаоса. Под прикрытием мглы можно друзей обратить во врагов, а жизнь – во всеобщее помешательство. Что и происходит во Тьфу-славской губернии.
«Скандалы, соблазны и все так замешалось и сплелось с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел была наиглавнейшая чепуха…
А между тем завязалось дело размера беспредельного… Работали перья писцов… трудились казусные головы. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом… Путаница увеличивалась». В дело запущены ложные цифры, ложные донесения. Идея все спутать так сработала, что губерния рухнула в бестолковщину и мглу.
Чем не сегодняшний финансовый кризис? Кажется, эта глава только что вышла из типографии, а не была извлечена полтора века назад из портфеля Гоголя.
Но закончим все же светлым.
Есть в сохранившихся главах второго тома маленькая поэма о вечере, проведенном Чичиковым в гостях у помещика Петуха. Чудное существо является в нем, русский Гаргантюа, поедающий «чудовищ»-осетров. Петух вырастает со дна озера, как Нептун, обвешанный водорослями. И пусть смешон он в своем поклонении обедам, завтракам и ужинам, – есть в нем неубитая сила и нескрытая доброта. Его гостеприимство столь же необъятно, как необъятен по размерам сам Петр Петрович.
Каждое слово, каждая черточка этого вечера на великой русской реке и лежащего вблизи озера полны дыхания русского простора, его безбрежности и таящейся в его глубине надежды.
Смотрите сами.
«Возвращались назад уже сумерками. Весла ударяли впотьмах по водам, уже не отражавшим небо. Едва видны были по берегам озера огоньки. Месяц подымался, когда они пристали к берегу. Повсюду на треногах варили рыбаки уху, все из ершей да из животрепещущей рыбы. Все уже были дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны. И самая пыль от них давно уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая крынки молока и приглашения к ухе. Там и сям слышался говор и гомон людской, громкое лаяние собак своей деревни и отдаленное – чужих деревень. Месяц подымался, стали озаряться потемки; и все, наконец, озарилось – и озеро, и избы; побледнели огни, стал виден дым из труб, осеребренный лучами».
Кто скажет, прочтя это, что талант Гоголя потух? Что он позабыл, какая земля его родила?
Где здесь распад, где отходная песня по России?
Скольжение лодок по реке, парень-запевала, чистым и звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла, начальные запевы песни, и разлив этой песни беспредельной, как Русь… «Петух, встрепенувшись, приговаривал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский». Вот вам Русь, увиденная не из «прекрасного далека», а вблизи, и сердцем, полным сыновнего чувства.
Последнее заблуждение насчет Гоголя, на котором я кратко остановлюсь, касается «Выбранных мест из переписки с друзьями». Эта книга была оплевана, оклеветана, предана анафеме. Гоголя называли то Тартюфом, то искусным льстецом, желающим воскурить фимиам царскому дому, отступником от своего дара.
Раздались голоса и о его помешательстве.
Меж тем это великая книга русской литературы, без которой не было бы ни Толстого, ни Достоевского. Шаг, предпринятый в нее Гоголем, сегодня назвали бы новаторством. Судит сами, писатель, к слову которого привыкли как к речи, произносимой прокурором на суде (что было ложным представлением о Гоголе), обращает недовольство не на общество, не на власть, а на себя. Он как бы сходит с поэтического пьедестала, открывая дверь в свою душу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу