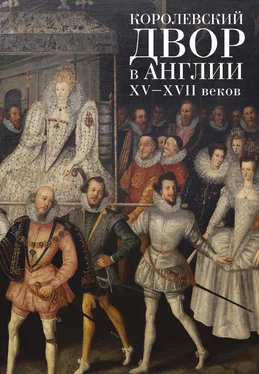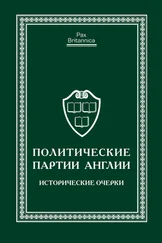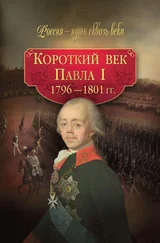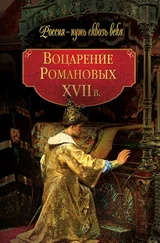Дева Мария передала королю весть от ее Сына (что также не позволяет говорить о финале эпифании). Христос избрал Генриха своим рыцарем и вверил ему заботу об этом городе. После этого Богородица заверила короля в том, что будет просить Сына о милости к королю [1115]. Здесь представляется весьма сомнительным утверждение Киплинга о «завершении связи христианского архетипа с imitatio Christi » [1116].
Скорее, о подражании Христу говорит финальная сцена, в которой Давид встретил короля в воротах замка, населенного людьми в белых и зеленых одеждах [1117]. Замок, безусловно, воплощал Небесный Иерусалим. Слова Давида словно замыкали процессию, возвращая ее участников к первой сцене:
Когда я правил Иудеей всей,
Мне путник из далеких стран поведал,
Что Эборак могучий город сей
Поставил в знак над Францией победы [1118].
Параллель Йорк – Иерусалим и его жители – Избранный Народ представляется более чем очевидной. Знак победы над извечным врагом– Францией еще больше подогревал «освященный патриотизм» этой сцены. С этими словами Давид вручил королю меч победы.
Кроме привычных схем королевской эпифании, начинающейся чудесным преображением земли и завершающейся въездом в яшмовый замок – Небесный Иерусалим, обновления города и превращения его жителей в Детей Израилевых, а также прямой демонстрации королевских доблестей – милосердия, справедливости, мудрости, победоносности, интересными представляются врученные подарки. Генрих VII последовательно получил корону, скипетр и меч, что точно повторяет формулу коронации Четвертого коронационного чина, которая приводилась выше. Нет только вручения мантии (паллиума), хотя можно допустить, что он вручался в третьей сцене – единственной, где не было подарка согласно источникам. Таким образом, Генрих проводит не просто аккламацию, а фактически повторную коронацию в покоренном оплоте йоркистов. Это было тем более важно, что аккламационную процессию Ричарда III в Йорке часто называли коронацией [1119]. Новый король, принимая королевские инсигнии, как бы очищал город, удалял негативные последствия коронации «узурпатора».
В целом городские процессии XV в. уже служили той цели, которой они будут служить и в XVI, и в XVII вв. – распространению королевской власти, созданию связи между монархом и городом, пропаганде легитимности и политической программы власти. Некоторым отличием была прямая пропаганда доблестей монарха и его власти, а также несколько более выраженный акцент на включение правителя в городское сообщество. Впрочем, как и в Лондоне, ключевую роль в этом включении играли символически значимые места города – акведуки, рынки и другие loci, концентрировавшие коллективную память и идентичность горожан [1120]. Единственное незначительное структурное отличие, заключавшееся в стремлении привести королевскую эпифанию к героической фигуре в конце, не влияет на общую символическую схему утверждения власти. Можно говорить лишь о том, что знаменитая трехчастная схема проявления власти божества – бог-покровитель ритуала; бог-герой, победитель чудовищ; бог-кормилец, культурный герой – была обозначена более четко [1121].
Таким образом, и в провинциальных процессиях присутствовал скорее континуитет, чем дисконтинуитет. Не приходится считать радикальным разрывом с предыдущей традицией и переход к античным символам демонстрации власти. Подобный подход долгое время был доминирующим, прежде всего за счет авторитета Эдмунда Чамберса [1122]. Из современных авторов такой подход поддерживает, например, Рой Стронг, который пишет о превращении королевских въездов в античные триумфы [1123].
Само по себе первое появление элементов классической мифологии на островах произошло в Шотландии во время процессии в честь невесты Якова IV Шотландского принцессы Маргариты Тюдор в 1503 г. Въезд в город был оформлен в виде римской триумфальной арки, а одной из сцен был Суд Париса [1124]. Эта же сцена была использована в Англии для аккламационной процессии в честь Анны Болейн 30 лет спустя. Эту процессию Сидни Энгло назвал «первой подлинно классической в Англии» [1125]. Среди множества античных символов – Аполлона с музами, Геликона и других – был и Парис, который пытался выбрать из трех богинь, но в итоге выбрал четвертую – Анну. Поскольку, согласно Фичино, Суд Париса – это выбор между тремя жизненными путями– созерцательной, активной и гедонистической жизнью, и любой однозначный выбор является ошибкой, то в данном случае Парис не делал ошибки [1126]. Он выбирал богиню, наделенную всеми тремя достоинствами– царственностью, мудростью и любовью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу