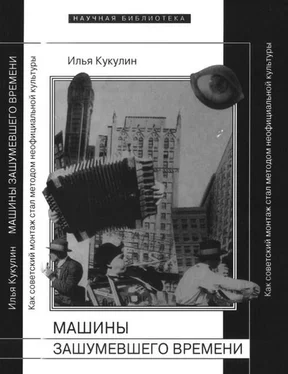5 октября 1945 года распоряжением Совета народных комиссаров РСФСР выставка «Героическая оборона Ленинграда» была преобразована в музей республиканского значения. Однако в результате «Ленинградского дела» музей был обвинен в политических ошибках и сначала преобразован в подобие музея Сталина, а потом и вовсе закрыт. По иронии судьбы приказ о его ликвидации был подписан — после долгих проволочек — 5 марта 1953 года.
Советский монтаж как рефлексия исторического насилия
Нарастающее влияние монтажной стилистики на советскую культуру не было прямо обусловлено вмешательством властей или партийных идеологов. Авангард и модернизм на протяжении 1920-х годов все больше теряли институциональное влияние. Начиная с 1921 года, когда футуристов изгнали с руководящих должностей в Наркомпросе, руководители РСФСР и ВКП(б) все более подозрительно относились к эстетическому авангарду и особенно к его претензиям на власть: так, на протяжении многих лет партийные лидеры последовательно «спускали на тормозах» попытки лефовцев возглавить советское искусство [287] См. об этом, например: Галушкин А. Ю. Над строкой партийного решения. Неизвестное выступление В. В. Маяковского в ЦК РКП(б) // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 108–130, здесь с. 114–115.
, но гораздо терпимее относились к аналогичным устремлениям рапповцев и даже периодически поощряли их. Эстетически рапповцы были куда более консервативны, чем лефовцы, хотя сплошь и рядом адаптировали открытия конкурентов для своих целей [288] Напомню эпиграмму В. Маяковского на бывшего рапповца А. Безыменского, написанную в 1930 году: Уберите от меня этого бородатого комсомольца! — Десять лет в хвосте семеня, он на меня или неистово молится, или неистово плюет на меня.
.
Модернистская фрагментация текста и использование монтажных принципов не могли бы получить такое большое распространение в советской литературе, ориентированной на нового читателя (а Серафимович и тем более Шолохов ориентировались именно на него), если бы у этого приема — а при последовательном применении монтажа можно уже говорить не о приеме, а об эстетическом методе — не было бы социально-психологических предпосылок, важнейшие из которых я попытаюсь назвать и описать ниже.
Советский новый читатель/зритель в 1920-е годы был чаще всего новым горожанином. 1920-е годы стали периодом очень быстрой урбанизации России, переселения в города бывших жителей деревни и маленьких уездных городов. Поэтому та психологическая связь «городского воображения» и монтажа, которая была описана в предыдущей главе, в РСФСР и, после 1922 года, в СССР была особенно сильной.
На советском обществе очень резко сказались последствия коллективной психологической травмы, которая и в России, и в других странах Европы была вызвана Первой мировой войной и концом «длинного XIX века», с его верой в технический прогресс и поступательную гуманизацию. В СССР, Германии и, например, Ирландии к этой общей травме добавился шок от гражданской войны [289] В Европе были и другие страны, пережившие в конце 1910‐х — начале 1920‐х разрушительные гражданские войны, например Финляндия, но здесь названы только те, в искусстве которых можно наблюдать эффект «посттравматического монтажа». Очевидно, что в истории искусства сходные причины в различных культурах могут приводить к разным последствиям.
, а в СССР — еще и от катастрофической ломки всего жизненного уклада (в Германии и Ирландии он не был таким радикальным) и начала массовых политических репрессий — почти одновременно с революцией [290] Подробнее о переживании психологической травмы населением России см., например, книгу, имеющую, на мой взгляд, ряд методологических недостатков, но представляющую ценный фактический материал — отправленные в 1920‐х годах письма «обычных» советских граждан в центральные органы власти: Булдаков В. П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг. М.: РОССПЭН, 2012. Об этой травме см. также: Яров С. В. Человек перед лицом власти: 1917–1920‐е гг. М.: РОССПЭН, 2014.
. Как пишет Владимир Паперный, быстрая модернизация, сопровождавшаяся репрессивно-мобилизационным преобразованием общества, переживалась особенно остро и болезненно в такой архаической, социально косной стране, как Россия [291] Паперный В. Культура Два. С. 258–262.
.
По наблюдению Марка Липовецкого, эксперименты в литературе 1920-х годов были в значительной мере посттравматическими по своему происхождению. «Именно ощущение невозможности отделить письмо от травмы и вызывает свойственное литературе как 1920–1930-х, так и 1960–1980-х годов неприятие традиционных („дотравменных“) форм письма — „нормального“ романа, рассказа, повести» [292] Липовецкий М. «И пустое место для остальных»: Травма и поэтика метапрозы в «Египетской марке» О. Мандельштама // Травма: Пункты. С. 749.
.
Читать дальше