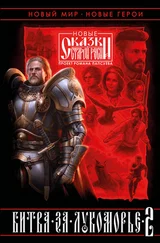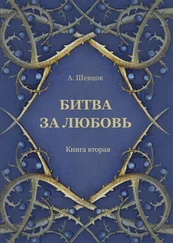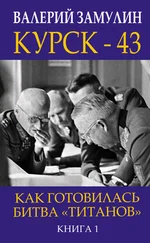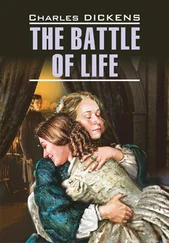Первое письменное упоминание [157] Борис Пастернак. Письмо Н. Я. Мандельштам // Пастернак Б. ПСС. Т. 9, 421.
о романе появляется в письме к Надежде Мандельштам в ноябре 1945 г., когда Пастернак написал, что приступил к новому произведению, роману, который охватывает всю их жизнь. В канун нового 1945 года Пастернак столкнулся с Гладковым на Моховой улице возле Кремля. Хотя их постоянно толкали прохожие, им удалось обменяться несколькими словами; шел небольшой снег, припорошивший воротник и шапку Пастернака. Пастернак сказал, что работает над романом [158] Gladkov, Meetings with Pasternak, 125.
«о людях, которые могут быть представителями моей школы — если бы у меня была школа». Перед тем как пойти дальше, он застенчиво улыбнулся.
В письме, написанном сестрам в Англию в конце года, он утверждал, что собирается изображать важнейшие события в жизни страны ясным, простым языком. «Я начал [159] Борис Пастернак. Письмо сестрам, конец декабря 1945 // Boris Pasternak, Family Correspondence, 370.
, но все еще так далеко от того что хотят от нас здесь и что привыкли ждать от нас люди, что трудно писать регулярно и прилежно». По мере того, как продвигалось действие, настроение у Пастернака улучшалось. «Я в том же прекрасном настроении [160] Борис Пастернак. Письмо Ольге Фрейденберг, 24 февраля 1946 // Boris Pasternak and Olga Freidenberg, Correspondence, 251.
, каким наслаждался более 30 лет назад; это почти смущает». Ему казалось, что дни и недели свистят [161] Yevgeni Pasternak, Boris Pasternak: The Tragic Years, 162.
мимо его ушей. «Я писал это с большой легкостью [162] De Mallac, Boris Pasternak, 181.
. Ситуации были совершенно определенными, ужасно точными. Все, что мне оставалось делать, — слушать их подсказки всей душой и послушно воплощать их предложения». Кроме того, весной 1946 года Пастернака подбадривал восторженный прием, оказанный ему москвичами на нескольких литературных вечерах. В апреле 1946 года на вечере в МГУ, когда он собрался уйти со сцены, слушатели просили его продолжать. Через месяц, на вечере в Политехническом музее, его снова вызывали на «бис». Пастернак писал сестрам, что переживает своего рода роман с читателями и слушателями. «Это чувствуется в концертных залах [163] Борис Пастернак. Письмо сестрам, конец декабря 1945 // Boris Pasternak, Family Correspondence, 368.
, где билеты распродаются, как только мое имя появляется на афише, — и, если я запинаюсь, начиная читать любое из моих стихотворений, мне подсказывают из трех или четырех различных мест» ( один знакомый предположил [164] Barnes, Boris Pasternak. Т. 2, 252.
, что Пастернак, выступая с чтением своих стихов, нарочно притворялся забывчивым, чтобы испытать читателей и крепче привязать их к себе).
3 апреля 1946 года Пастернак принимал участие в вечере поэзии, куда пригласили московских и ленинградских поэтов. Пастернак опоздал [165] Yevgeni Pasternak, Boris Pasternak: The Tragic Years, 163.
, и аудитория разразилась аплодисментами, когда он попытался незаметно пройти на сцену. Выступавший в то время поэт вынужден был прервать чтение до тех пор, пока Пастернак не сядет на место. Перебитого и, несомненно, раздраженного поэта звали Алексей Сурков; в его лице Пастернак нажил непримиримого врага. Именно Сурков говорил, что Пастернаку, чтобы стать великим, необходимо впитать в себя революцию. Разрыв казался не простым совпадением, когда примерно то же произошло почти через два года, когда Сурков выступал на «Вечере поэзии» [166] Max Hayward, introduction to Gladkov, Meetings with Pasternak, 20–24; De Mallac, Boris Pasternak, 194.
в Политехническом музее, посвященном теме: «Долой поджигателей войны! За прочный мир, за народную демократию!» Зал Политехнического считался одним из самых больших в Москве; он был настолько переполнен, что люди сидели в проходах, а на улице толпились те, кто не мог попасть в зал. Сурков приближался к концу стихотворного обличения НАТО, Уинстона Черчилля и всяких западных агрессоров, когда аудитория взорвалась аплодисментами — как будто невпопад. Покосившись через плечо, Сурков снова увидел Пастернака. Незаметно пробираясь на сцену, он снова лишил Суркова заслуженных похвал. Он вытянул руки, чтобы утихомирить толпу и позволить Суркову продолжать. Когда Пастернака наконец вызвали к микрофону, он лукаво заметил: «К сожалению, у меня нет стихов по теме вечера, но я прочту вам несколько вещей, написанных до войны». Каждое стихотворение встречалось восторженно. Кто-то закричал: «Шестьдесят шестой давай!», имея в виду 66-й сонет Шекспира, который Пастернак перевел в 1940 году. В сонете бард восклицает:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
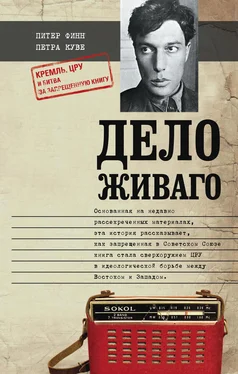
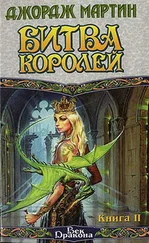
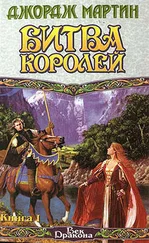



![Вера Камша - Битва за Лукоморье. Книга I [litres]](/books/434116/vera-kamsha-bitva-za-lukomore-kniga-i-litres-thumb.webp)