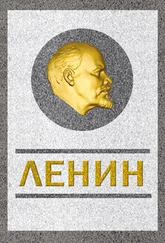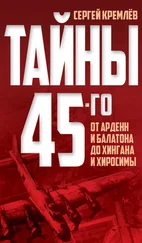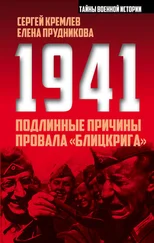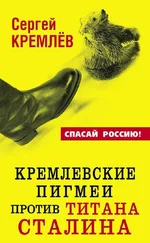Дело было в том, что ко второй половине XV века Новгород прочно вошёл в систему Ганзейского союза. Ганза имела главные заграничные торговые конторы в Брюгге, Генте, Лондоне, Бергене, Стокгольме, Ковно… И, всё же, особо важное значение имела Новгородская контора, потому что ряд русских товаров был, по сути, уникальным – та же пенька, необходимая и военному, и торговому флоту. В среде богатеющей элиты Новгорода стали усиливаться сепаратистские настроения. Возникала угроза политического отрыва северных русских земель от Руси. Новгородская верхушка оказывалась на Руси, говоря современным языком, коллективным агентом влияния Запада.
Крупнейший специалист по той эпохе Руслан Скрынников в 1994 году выпустил в свет отдельную монографию с характерным названием «Трагедия Новгорода», где подверг сомнению вывод советской историографии о том, что интересы новгородской боярской олигархии оказались несовместимыми с интересами России. В 1994 году было модно расхваливать демократию и клеймить позором «тоталитаризм», и Скрынников – действительно крупнейший специалист по истории России XVI – начала XVII веков, имея в виду репрессии против Новгорода, предпринятые уже Иваном Грозным, утверждал, что «нет оснований рассматривать падение Новгорода и торжество московской централизации как торжество исторического прогресса».
Впрочем, задолго до Скрынникова – в 1906 году, крупный русский буржуазный историк либерального толка Николай Костомаров издал труд «Русская республика». Весьма сочувствуя в нём Новгороду, Костомаров тоже писал о «новгородской катастрофе», но относил её ко времени разгрома Новгорода Иваном III…
Любопытна картина тогдашних внутригородских усобиц, описанная Костомаровым: «…усобицы в Новгороде были такого свойства, что когда сами бояре ссорились между собой, то искали опоры в чёрном народе; а чёрный народ вооружался против бояр, и в то же время примыкал к другим боярам. Так вращались политические партии, и одна против другой подбирала себе пособников из черни, выставляла противников утеснителями, а себя охранителями чёрного народа».
Этот средневековый политиканский балаган действительно очень напоминает и «торжество демократии» времён нью-йоркского «Таммани-холла», и нынешнюю «российскую демократию» жириновского образца.
Вполне показателен и следующий пассаж из труда Костомарова, описывающий ситуацию 1479 года: «Новгород оставался на душе у Казимира (речь о Казимире IV Ягеллончике. – С.К .).
Он обещал помощь. Литовцы денег ему не давали: он обратился с просьбой о деньгах к папе, а между тем послал к хану Большой Орды подвигать его на московского государя, бывшего его данника. Была надежда новгородцев даже на помощь внутри великого княжения: братья великого князя – Андрей и Борис, вместе с братом воевавшие Новгород, стали недовольны; они сами испытывали тягость московского самовластия… Они переговаривались с заговорщиками и изъявили согласие действовать заодно…».
Это всё – накануне похода хана Ахмата на Русь, который был потенциально чреват не «новгородской», а общерусскойкатастрофой! Вот подлинная суть фактора Новгорода в той эпохе, судьбоносной для будущего Руси…
Костомаров не был абсолютно категоричен в осуждении «новгородской» политики Ивана III Великого, зато современные российские либералы вовсю стали популяризировать мнение о том, что проклятая тоталитарная-де Москва Ивана III, а затем и ещё более тоталитарная, тираническая Москва Ивана IV Грозного утопили-де в крови новгородскую свободу… А вот если бы на Руси возобладала не азиатская Москва, а просвещённый, тесно связанный с Европой «господин Великий Новгород», то свет нарождающейся европейской демократии пролился бы и на русские просторы, и в трогательном единении с Европой Русь двинулась бы к благоденствию и процветанию.
Но что было бы, если бы московские «государи всея Руси» (впервые так назвал себя именно Иван III Великий) жёстко и последовательно не подавляли сепаратизм Новгорода и не подчинили себе также Тверское княжество?
О последних тверских князьях можно сказать словами Фёдора Тютчева о царе Николае I: «Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей…» Однако в не меньшей мере это же можно сказать и о новгородских боярах и новгородской торговой знати. Вот как об этом пишет советский историк – тоже вполне профессионально компетентный – Ю.Г. Алексеев:
«Новгородская земля в отличие от всех других ни разу не подвергалась ордынскому нашествию. Татарские “царевичи” не грабили новгородские погосты… Новгород входил в состав федерации русских земель и признавал формально власть великого князя (московского. – С.К .), главы этой федерации. Но в своих отношениях с великим князем он усвоил гордый и независимый тон и фактически проводил собственную политику, нимало не считаясь с интересами Русской земли в целом. Новгородские бояре вели переговоры и заключали самостоятельные соглашения с великим князем Литовским и магистром Ливонского ордена, вступая с ними в сделки за счёт своего “брата молодшего” – Господина Пскова (тяготевшего к Москве. – С.К .). Не вмешиваясь открыто в княжеские усобицы, новгородские власти использовали их для укрепления своего положения. Они давали приют князьям-антагонистам и тем способствовали продолжению феодальной войны».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
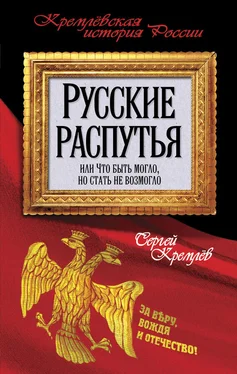
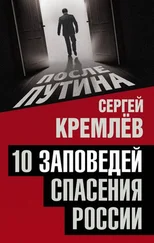
![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/books/67304/sergej-kremlev-velikij-i-obolgannyj-sovetskij-soyuz-thumb.webp)