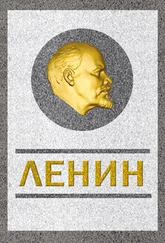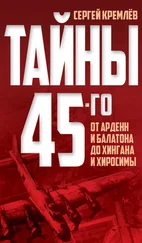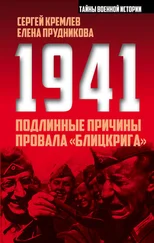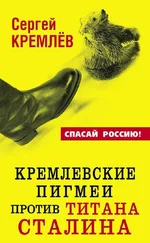Судебник устанавливал и единый для всего государства срок перехода крестьян от одного владельца к другому. Лишь раз в году – глубокой осенью, в течение недели до осеннего Юрьева дня 26 ноября и недели после него – крестьянин, уплатив «пожилое», мог уйти на земли другого феодала. Это был шаг к закрепощению крестьян.
Можно отметить также, что в ту эпоху большинство замужних женщин и вдов из обеспеченных слоёв населения ещё обладали правом владения и распоряжения движимой и недвижимой собственностью наравне с мужчинами.
Принятие Судебника Ивана III явилось важнейшей мерой, однако она не могла быть реализована на практике так полно, как это задумывалось в теории, и как это могло бы происходить в условиях Западной Европы. Понятие права и в последней тогда отнюдь не было всесильным – постоянные внутренние европейские вооружённые конфликты нередко давали право лишь сильному, и правовые нормы более-менее соблюдались лишь в городах и в отношениях между равными. На Руси же институт юридических прав то и дело обесценивался беспрецедентным, по европейским меркам, непрерывным внешним давлением – уже не столько со стороны умирающей Большой-Золотой Орды, сколько со стороны растущего Крымского ханства с его системой набегов на Русь.
Противостояние с Литвой и Польшей стало вторым постоянным фактором крупнейших деформаций права. Не могла Русь политически развиваться так, как развивалась Западная Европа, и по этой же причине тормозился вообще весь цивилизационный прогресс, включая его наиболее тонкую сторону – технологическую и научно-познавательную. В Европе же подобного тормоза не было…
За десять лет до того, как Иван III сел на великокняжеский стол, закончилась Столетняя война между Францией и Англией. А во время его правления победа дома Йорков завершила английскую гражданскую войну Алой и Белой Розы.
В год «великого стояния на Угре» во Франции умер французский живописец Жан Фуке – представитель раннего Возрождения, которое стало началом новой Европы на рубеже XV и XVI веков. Современниками Ивана III Великого были архитекторы Брунеллески и Браманте, художники Джорджоне, Рафаэль Санти и Дюрер, учёные Леонардо да Винчи и Коперник, поэт Франсуа Вийон, мыслители Томас Мор – автор «Утопии», и Эразм Роттердамский – автор «Похвалы Глупости»…
За год до смерти Ивана III Микеланджело закончил вырубать из мрамора своего бессмертного «Давида»…
В эпоху Ивана III немецкий гуманист Иоганн Рейхлин начал критический анализ Библии и дискуссию с католическими богословами о праве на научное исследование, а Ульрих фон Гуттен написал сатирический памфлет «Письма тёмных людей». Через двенадцать лет после смерти Ивана III Мартин Лютер прибьёт к двери католического храма свои 95 антикатолических тезисов, положив начало Реформации…
В 1450 году, когда княжичу Ивану исполнилось десять лет, Иоганн Гутенберг начал печатание в Майнце Библии, используя изобретённый им печатный станок и стандартные заменяемые элементы – литеры из сплава свинца, олова, сурьмы и висмута. А в 1492 году Христофор Колумб достиг берегов Америки.
До Руси Ивана III от этого разгорающегося пламени новой общественной и интеллектуальной жизни долетали отдельные искры… Цивилизационный разрыв между Русью и передовыми достижениями научного и технологического знания, культуры и образования, социального прогресса всё более возрастал. Два оставшихся позади тёмных века ордынского периода могли сказаться на русском будущем самым драматическим, если не трагическим образом. Впрочем, в реальном масштабе времени для Руси Ивана III наиболее важными оказывались задачи обеспечения внешней безопасности и национальной независимости, как и задачи национального объединения в той мере, в какой это было тогда возможно. Многие русские земли захватили Литва и Польша и предстояла борьба за них, а кроме того актуализировалась проблемы «балтийской» политики.
Однако прежде всего Ивану III было необходимо решить «новгородский вопрос». Решён он был Иваном III Васильевичем не окончательно, это выпало на долю другому Ивану Васильевичу – IV-му Грозному, но уже в эпоху Ивана III вопрос назрел. И назрел не только (да и, пожалуй, не столько) из-за про-литовских и про-польских настроений новгородской элиты, но и по более существенной причине.
С одной стороны, тяготение новгородской олигархии к Польше было давним, а в последние годы княжения Василия Тёмного, ослеплённого Дмитрием Шемякой, Новгород открыто обращался за поддержкой к полякам… Приютил Новгород и противника централизации Шемяку. Но, с другой стороны, это было не всё! Новгородская элита по отношению к общерусской судьбе потенциально была дважды предательской.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
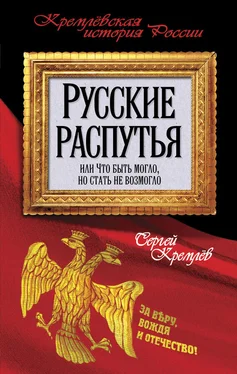
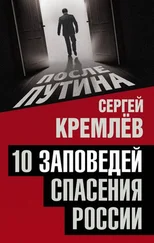
![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/books/67304/sergej-kremlev-velikij-i-obolgannyj-sovetskij-soyuz-thumb.webp)