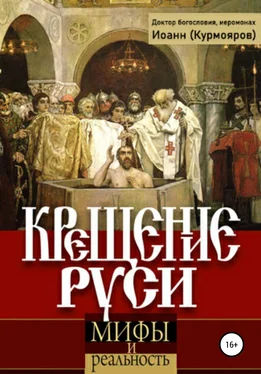Далее по тексту: «Сущность религии наиболее глубоко была раскрыта марксизмом, который продолжил и развил традиции критики религии прогрессивной общественной мыслью, подняв эту критику на качественно новый уровень. Марксизм объясняет существование религии реальными общественно-историческими отношениями… В классовом обществе религия как элемент социальной структуры выполняет определенные функции, является одним из инструментов, при помощи которых идеи господствующих классов становятся господствующими в данном обществе идеями. Религия выступает, т. о., как духовная опора «превратного мира», построенного на социальном неравенстве и гнете…» (Философский Энциклопедический Словарь. Москва. Советская энциклопедия. 1983 г. С. 577.)
Б.Д. Греков. Киевская Русь. Издание Третье, Переработанное и дополненное. Издательство Академии Наук СССР. Москва. 1939 г.: http://www.bookol.ru/nauka_obrazovanie/istoriya/20584.htm
А.В. Карпов «Язычество, христианство, двоеверие». Алетейя. СПб., 2008. С. 28–30.
Там же.
Григорий Богослов. Собрание творений. Т. 1. Москва АСТ. 2000 г. стр. 19.
П. Анохин. Миф о душе. Издательство «Советская Россия». С.159
Н.М. Никольский «История Русской Церкви». Издательство политической литературы. Москва. 1988 г., стр.23.
Там же.
Настольная книга атеиста. Издательство политической литературы. Москва. 1983 г., стр.171.
««Монотеизм освобождает природу для науки – во-первых, для ее экспериментов, а во-вторых, вообще для ее мыслительных предположений. В христианстве образом Творца оказывается не мир, а человек, Единородным Богу оказывается Сын, а не Вселенная. Эта удаленность мира и человека от Бога позволила создать пространство космологуменов, то есть таких суждений о человеке и мире, которые не принимали сразу религиозного характера и тем самым не навлекали подозрений в кощунстве. «Творение из ничего – это догмат, переносящий центр смысловой деятельности с природы на сверхприродное начало, лишающий природу той самостоятельности, которую она имела у греков. Именно отношение к природе как к чему-то божественному, самоценному и самостоятельно сущему, то есть некоторая сакрализация природы является, на наш взгляд, одной из причин того, почему в античности принципиально не могла появиться наука», – пишет авторитетнейший современный русский историк культуры П. П. Гайденко…
Итак, у той колыбели, которой для новоевропейской науки явились средние века, должны были все время находиться слова Писания: «Бог расположил все мерою, весом и числом» (Прем. 11, 20). Нужно было средневековье, аскетически сводящее мир к Библии, чтобы лишить звезды сакрального статуса, чтобы начать говорить о звездах как о камнях – не рискуя при этом быть убитым возмущенными жрецами. Ведь именно за это Анаксагор был выслан из Афин. Чтобы Коперника не постигла подобная же участь, ему нужен был преп. Иоанн Дамаскин: «Никто же да не думает, что небеса или светила одушевленны, ибо они – бездушны и бесчувственны»…
Дело в том, что в Библии нет ясной и развернутой космологии. В ней нет ни астрономии, ни физики. Средневековый мир пользовался аристотелевской физикой. Призыв Церкви следовать только Библии и не придавать значения мнениям древних метафизиков означал, что разум освобождался от пленения прежними натурфилософскими авторитетами…Развернутой космологической системы в Писании просто нет. Но это и означало на деле, что для исследователя образовался огромный зазор для свободного исследования по вопросам, которые в принципе оказались не разрешены прошлыми веками…
Космобоязнь христианской мысли, боязнь возрождения языческо-религиозного отношения к космическим стихиям побуждала настойчиво демифологизировать их, лишать души и воли, и тем самым все более и более приближала космические пространства, то есть все пространства, наполняющие мир в промежутке между Творцом и миром людей, – к простой механике…
Поэтому стоит прислушаться к выводу П. Гайденко о том, что: «научная революция, происшедшая в конце 16–17 вв. была бы невозможна, если бы за 1000 лет до этого не произошел тот радикальный мировоззренческий переворот, который изменил как отношение человека к природе, так и понимание им самого себя».
Вновь повторю: если бы в этом, отнюдь не безразличном к религиозным вопросам, обществе, появление науки было бы воспринято как событие антирелигиозное или хотя бы нерелигиозное – наука в той Европе не возникла бы.
Читать дальше