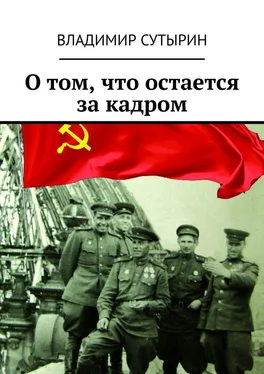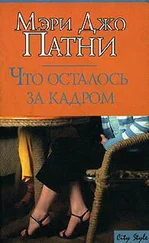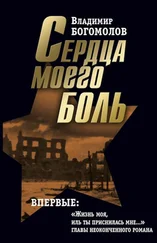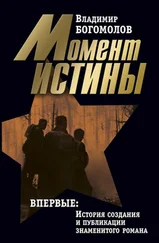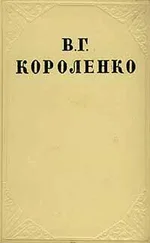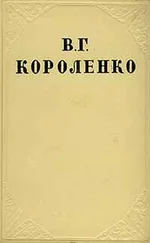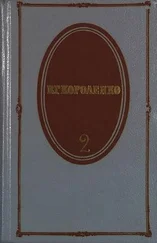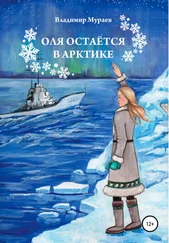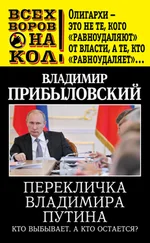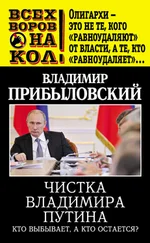Запомнилась первая беседа о жизни и борьбе ленинградцев, находившихся в блокаде. Все мы знали, что рабочие города на Неве получают в день всего по 250 граммов хлеба, а служащие и дети – и того меньше. Знали, что от бомбежек, обстрелов и голода тысячи мирных людей погибли. Положение Ленинграда чрезвычайно волновало всех нас.
Я подобрал много фактов, которые свидетельствовали о стойкости ленинградцев, их непоколебимой вере в победу, и рассказал о них гвардейцам. Мои товарищи узнали из беседы, что ленинградские рабочие не только ремонтируют боевую технику, создают оружие и боеприпасы, но и сохраняют исторические, культурные ценности. Они частично восстановили трамвайное движение, водопровод…
– Ленинград держится, борется, живет и ждет нас, – говорил я своим однополчанам. – Ждет подвига гвардейцев в боях при прорыве блокады».
Вот так непосредственно на переднем крае вели свою воспитательную работу политорганы Красной Армии.
Вернемся к положению на Северо-Западном направлении в конце 1941 – начале 1942 гг.
Если успешное в целом наступление наших войск с востока позволило освободить железнодорожную линию Тихвин – Волхов и наладить многоступенчатое снабжение Ленинграда: по «железке» – ледовой «Дороге жизни» – снова по «железке», то действия 54-й армии с севера в направлении железнодорожного участка Мга – Кириши встретили упорное сопротивление врага. К началу января 1942 г., наступая, наши продвинулись едва на 4 – 5 км, но закрепиться не смогли, и были оттеснены немцами на исходные рубежи.
В помощь 3-й гвардейской дивизии и другим частям, застрявшим в снегах на подступах к немецкой обороне, из Ленинграда была переброшена 11 стрелковая дивизия, в политотдел которой в декабре 1941 г старшим инструктором по организации партийной работы был назначен мой отец. Прибыв на берег Ладоги, они по озерному льду перешли с западного берега на южный и сосредоточились в районе станции Войбокало. Впереди было Погостье…
Генерал И. И. Федюнинский, командовавший 54-й армией, спустя годы вспоминал:
«Каждому участнику войны знакома не только радость побед, но и горечь неудач. Каждый, вспоминая прожитое, может сказать, когда ему было всего труднее. Такое не забывается. И вот если бы мне задали подобный вопрос, я бы без колебаний ответил:
– Труднее всего мне было под Погостьем зимой тысяча девятьсот сорок второго года…»
Само слово Погостье вряд ли у кого вызовет радость, тем более не вызывало у тех, кому предстояло штурмовать опорные пункты немцев на самой станции и в одноименном поселке… Хотя первоначально этим словом в достопамятные времена называлось место – стан, где располагались прибывшие «гости» – купцы со своим товаром, разбивавшие временный рынок для натурального обмена или торговли за деньги. Также на погосте останавливалась и княжеская дружина, собиравшая с местных жителей дань (налог). Полагаю, это уже потом как бы в шутку – метафорически – погостом стали называть вечный стан: кладбище. И вот этот, последний смысл слова в декабре – января 1941 г. оказался самым точным…
В. Станцев:
«Так что же это за станция Погостье?.. Это даже не станция, а точнее сказать, полустанок. Лежит он почти посередине между Киришами и Мгой, то есть имеет большое тактическое значение. Со взятием Погостья прерывалось железнодорожное сообщение противника со своими тылами в этом и других районах.
Перед станцией – довольно обширная поляна, занесенная снегом. Под снегом – убитые, на каждом шагу. Наши части наступали здесь еще поздней осенью, но из этого ничего не получилось – только потеряли людей. Еще тогда бойцы прозвали эту поляну «долиной смерти». Таковой она стала потом и для 3-й гвардейской.
Немцы прочно закрепились здесь. И не мудрено. Высокая насыпь достигала пяти-восьми метров, ширина итого больше – до двенадцати. На заминированных подступах к станции – проволочные заграждения в два кола, блиндажи, перекрытые несколькими слоями рельсов – не брали и тяжелые снаряды. В самой насыпи – дзоты через каждые 20 – 25метров, с огнеметами и пулеметами, между ними еще пулеметные точки, несколько в тылу – артиллерийские и минометные батареи, а еще дальше – десятки «скрипунов», которые при стрельбе бьют не по цели, а по обширной площади. А в ясную погоду (не любили бойцы эту «ясную» погоду) – пикировщики. Наших самолетов почти не было: ни бомбардировщиков, ни истребителей. Танки были, с десяток, но что проку. Преодолеть насыпи они не могли: крутизна… Вот и наступай тут! Опять ставка на пехоту. А, точнее, на потери: если бросить в атаку побольше людей, кто-нибудь доберется до насыпи… Такова жестокая логика войны: станцию надо непременно взять, любой ценой, иного выхода нет…
Читать дальше