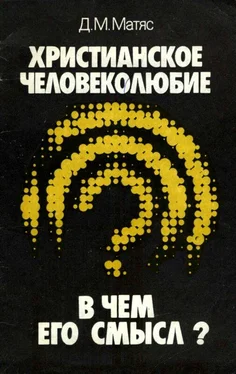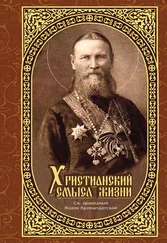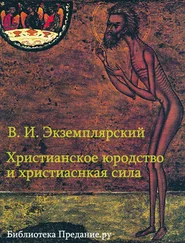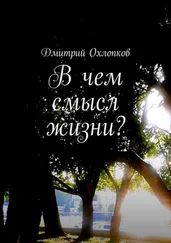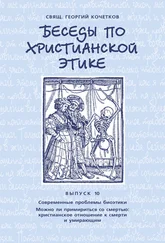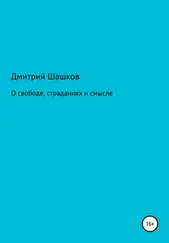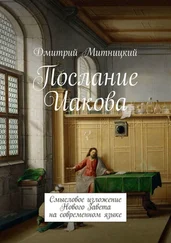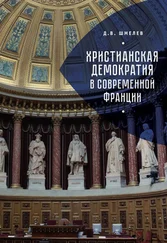Если строго следовать логике религии, то, скажем, для верующего католика, колхозника или рабочего, более близким является палач чилийского народа католик Пиночет, который регулярно посещает воскресные мессы, чем его товарищ но труду, свободный от религиозных представлений. А для последовательного евангельского христианина-баптиста бывший американский президент, баптистский проповедник Картер, развязавший оголтелую антисоветскую истерию, ближе, чем любой советский человек, не «брат во Христе». Сама возможность именно такого ответа на вопрос «кто наш ближний?» убедительно показывает не просто негуманный, но реакционный смысл христианской проповеди «всеобщей любви».
На самом же деле ни человечество в целом, ни общество каждой отдельной страны не делится на верующих и неверующих. Мы живем в классово разделенном мире, в котором есть прежде всего трудящиеся, производящие материальные и духовные ценности, и эксплуататоры, пользующиеся трудом других людей в целях собственной наживы. И отношения между ними никогда не строились и не могут строиться на принципах взаимной любви. Угнетенный не может возлюбить своего угнетателя. «Нет, нет, не является моим братом тот, который называется, как я, христианином, но является палачом народа, к которому я принадлежу, — говорил представитель антирасистских движений Африки на одном из заседаний Главного комитета Всемирного Совета Мира в Утрехте в 1972 году. — Не мой брат банкир, поддерживающий систему, которая угнетает меня» [34] Zycie i myśl, 1975, № 2–3, s. 4.
. Поэтому попытка христианства объявить всех людей вообще ближними между собой, братьями перед богом является не более как прекраснодушной фразой, способной лишь ввести в заблуждение эксплуатируемых и на какое-то время отвлечь их от борьбы за свое освобождение.
Строителям коммунизма не чуждо чувство любви к людям. Они не лишены дружеских, сердечных отношений к себе подобным, заботы об их благе, готовности поступиться собственными интересами, даже пойти на самопожертвование ради интересов других людей, коллектива, общества в целом. Это благородное нравственное чувство все более и более становится регулятором взаимоотношений между людьми, но не между всеми людьми вообще, а между товарищами по совместному труду, по борьбе за общие идеалы, между братьями по классу. Для нас каждый трудящийся — друг, товарищ и брат, независимо от того, придерживается он научного мировоззрения или нет. Наша любовь и уважение к трудящимся выходят за пределы одной страны и являются подлинно интернациональными чувствами. Для нас все труженики земли: будь то крестьянин Афганистана или Алжира, рабочий Болгарии или Португалии, житель Анголы или Кубы — являются братьями по классу, по борьбе за лучшее будущее человечества. Каждый успех в этой борьбе, достигнутый в любом уголке земного шара, радует и вдохновляет нас, советских людей, как наш собственный, потому что он укрепляет общие силы мира и прогресса, а неудача огорчает и тревожит нас, как наша общая неудача.
В то же время каждый, кто мешает борьбе за освобождение человечества, за построение коммунизма, — наш враг, независимо от того, верующий он или нет. Для коммунистов несравненно ближе верующий католик, баптист, православный, но честный труженик, сторонник демократии и свободы, чем неверующий капиталист, реакционер в буржуазных странах или тунеядец, хапуга в нашем обществе.
Итак, мы видим, что христианство определяет «ближних» людей по признаку отношения к существу сверхъестественному — богу и тем самым извращает подлинные отношения между людьми. Коммунизм же утверждает единство людей труда, исходя из общности их реальных условий существования и коренных жизненных интересов. В этом как раз и кроется величайшая преобразующая сила коммунистического гуманизма.
Можно ли любить врагов своих?
Проповедь человеколюбия в христианстве не ограничивается призывом любить ближнего. Этот призыв, как мы видели, был присущ и ветхозаветной морали. Христианство же дополнило его принципиально новой заповедью «любви к врагам», которая преподносится как наиболее полное выражение нравственного совершенства и высшее проявление любви к богу. Только через любовь к врагам и прощение совершаемого ими зла можно заслужить прощение собственных грехов. «Прощайте и прощено будет вам», — учит христианство.
Что же могло вызвать к жизни столь необычную нравственную норму?
Читать дальше