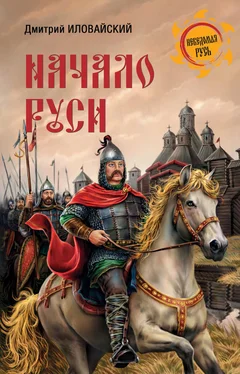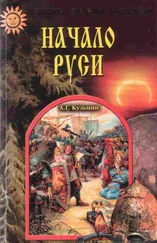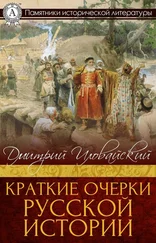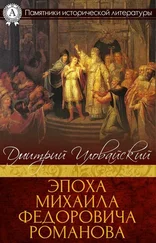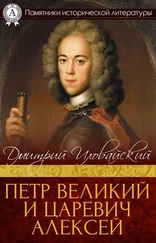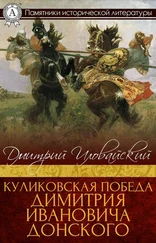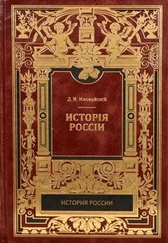Объединительные стремления того и другого народа ясно выражаются в известиях Аммиана Марцелина и Иордана. Аммиан, писатель IV века, с особою силою говорит о многочисленности и воинственности аланского племени (которого передовою западною ветвью были россаланы). По его словам, аланы подчинили себе многие народы и распространили на них свое имя. Он же перечисляет эти народы, но употребляет притом названия еще геродотовские, как то: невры, будины, гелоны, агатирсы, меланхлены и антропофаги. В этом перечислении, конечно, было преувеличение. С другой стороны, Иордан, писатель VI века, с явным пристрастием распространяется о могуществе готов и говорит, будто Германриху подвластны были кроме готов скифы, туиды (чудь), васинабронки (весь?), меренсы (меря), морденсимны (мордва), кары (карелы?), рокасы (русь), тадзаны, атуаль, навего, бубегенты, кольды, герулы, венеты (вятичи?) – одним словом, чуть не все народы Восточной Европы. Но интересно, что эти народы отчасти были ему известны под их живыми современными именами, а не под книжными названиями, повторяющимися со времен Геродота. Иордан как будто предупреждает нашу летопись, которая, перечисляя инородцев, «иже дань даю руси», приводит тех же чудь, весь, мерю, мордву и пр. Как ни преувеличены эти известия Аммиана и Иордана, но они дают понять, что уже в те отдаленные времена история ясно намечала объем и состав будущего Русского государства. Что между готами и руссами шла исконная вражда за господство в Скифии, подтверждает предание, сообщенное тем же Иорданом: когда готы пришли на берега Черного моря, то должны были выдержать борьбу за свои новые жилища с сильным народом спалами. Последние были, конечно, то же, что палеи и спалеи классических писателей (Диодора и Плиния). В них мы узнаем наших полян (от них же и слова сполин или исполин ), а следовательно, тех же россалан или руссов.
Для объяснения события, записанного византийцами, и сложились сказания об Аскольде и Дире о призвании князей в 862 году. Все подобные басни совершенно соответствуют понятиям и средствам старинных бытописателей и списателей. Но замечательно то, что они находят защитников и в наше время, время научной критики.
И в последнее время он действительно начал расширяться, благодаря особенно раскопкам Д.Я. Самоквасова.
Tunmann. Untersuchugen ueber die Geschichte der oestlichen Voelker. 1774; Engel . Geschichte der Bulgaren. 1797; Klaproth. Tableaux histor. 1726; Fraehn . Die aelt arab. Nachr. über die Wolga – Bulgaren в Mem. de l'Academie. VI, Ser. T. I.
Из последователей его укажу на сочинение г-на Крьстьовича « История Блъгарска» (Ч. I. Цариград, 1871) и на любопытную диссертацию Серг. Уварова «De Bulgarorum utrorumque origine» (Dorpati, 1853). К сожалению, последний не довел этого вопроса до надлежащей степени ясности и критики.
См.: Memoriae Populorum. I. 451.
В этом исследовании о болгарах я старался по возможности рассматривать их отдельно, не решая пока вопроса о народности гуннов вообще. Решение его см. ниже.
См.: Memoriae Pop. II. 442.
Некоторые другие случаи древнейшего упоминания имени болгар см. в исследовании г-на Дринова «Заселение Балканского полуострова славянами» (М., 1873. С. 90), а также в «Romanische Studien von Roesler» (Leipzig, 1871. S. 234 и 235). Из византийских источников первый употребляющий имя болгар, вместо гуннов, есть Феофилакт Симокатта. А он писал в первой четверти VII века, следовательно, был почти современник Менандра.
Они даже прямо отождествляли котургуров и утургуров с болгарами, например: Шлецер (Allgem. Nord. Geschichte. 358), Тунмань (32–34), Энгель (253), Чертков («О переводе Манансиной летописи». 47) и Реслер (236).
Басню о лани, показавшей гуннам путь через Меотиду, Иордан относит к первому нашествию гуннов на остготов, то есть ко временам Германриха.
Так же как Прокопий, и Агафий вместо болгар употребляет общее название гунны и делит их на котригуров и утигуров; но к этим двум прибавляет еще два племени: ультинзуров и буругундов.
По поводу именно этого нашествия кутургуров Кедрин выразился: «Гунны или стлавины»; а современник самого события африканский епископ Виктор Туннуненский называет их вместо кутургуров просто болгарами (Roncal. Vet. lat. Chron. II. 377).
Замечательное сходство в описаниях обоих нашествий, 551 и 559 годов, заставляют подозревать какое-либо недоразумение. Оба писателя, Прокопий и Агафий, не повествуют ли, в сущности, об одном и том же событии?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу