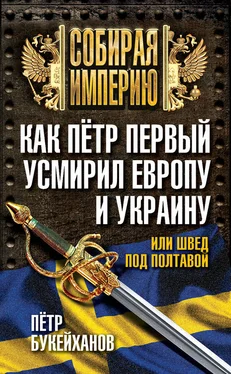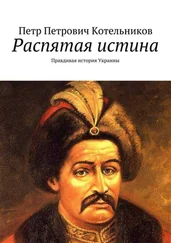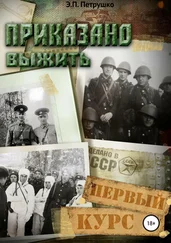В итоге, если бы шведы под Полтавой одержали победу, причем сокрушительную, с полным уничтожением русской полевой армии, надеяться на благоприятный исход войны они все равно могли только в случае последующих уступок со стороны царя. Растаявшая в походе королевская армия к лету 1709 года уже не представляла серьезной угрозы, а для дальнейшего наступления в центральные области России еще предстояло преодолеть развитую кордонную систему. При условии продолжения русскими стратегии отхода и разорения местности даже иррегулярная татарская конница – единственная сила, способная оперативно усилить шведов в Украине, – становилась малоэффективной из-за наличия большого числа укрепленных пунктов, находившихся в руках царской армии. В 1708 году царские инженеры и саперы укрепили Новгород-Северский, Стародуб, Почеп, Ахтырку, Лебедин, Белгород, Прилуки, Нежин, Коропу, Глухов, Пирятин, Макошин, Сосницы, Липовец [825], так что без мощной артиллерии (полевой или осадной), которой не было ни у шведов, ни у татар, ими стало трудно овладеть. Удержание этих опорных пунктов обеспечивало русскому командованию надежный контроль над территорией и коммуникациями, так что, если бы шведы решили следовать стратегии татарских войск и просто обойти кордоны, то все наступление в глубь России превратилось бы в обычный грабительский набег, лишенный верной оперативно-стратегической цели (согласно сообщениям перебежчиков, к весне 1709 года шведское командование, столкнувшись с оборонительной стратегией противника, окончательно решило не навязывать ему сражения, а быстро двигаться из Украины прямо к Москве, и пыталось создать запас продовольствия из расчета на двухмесячный марш со средней скоростью 22 км в сутки [826], но даже взятие этого столичного города, не представлявшего особой ценности для царя Петра, но усиленно готовившегося к защите, отнюдь не позволяло успешно завершить кампанию в России).
С другой стороны, беспрепятственное отступление из Украины после удачной битвы поставило бы короля перед необходимостью вновь изыскивать людские и материальные ресурсы. В таком заведомо неравном соревновании с Россией Швеция была обречена на поражение. Всего военные предприятия короля стоили шведам по приблизительным оценкам до 150 тыс. человек убитыми, ранеными, пленными и умершими от болезней в походах [827], то есть около 10 % коренного шведского населения или примерно 20–25 % мужской половины шведов (при этом в итоге войны Швеция утратила ряд принадлежавших ей густонаселенных земель и провинций, где проживали еще несколько сотен тысяч человек, так что демографические потери, даже не учитывая экономический ущерб, оказались для страны невосполнимыми).
В связи с этим, закономерным итогом ошибочной стратегии шведского командования стали вначале частные оперативные неудачи, а затем и кульминационная военная катастрофа под Полтавой, фактически перечеркнувшая все прежние военные достижения короля Карла. Когда в Англии получили отчет посла Витворта о битве под Полтавой, маршал Джон Мальборо, который встречался со шведским королем в Саксонии в апреле 1707 года, отметил, что после десяти лет непрерывных успехов Карл XII из-за невезения и дурного командования погубил себя и свою державу всего за два часа [828].
С точки зрения морального аспекта поведение Карла также не безупречно. Шведские историки отмечают, что если король не считал ситуацию безнадежной с точки зрения возможности шведов сопротивляться русским, то он должен был бы не оставлять войска в Переволочне под командованием Левенгаупта, а лично проконтролировать переправу армии через Ворсклу и убедиться в возможности для шведов начать марш на юг по восточному берегу Днепра.
Кроме этого, по мнению Б. Григорьева, король отучил шведских военачальников думать и принимать решения, поскольку вплоть до мелочей решал все сам и единолично, вследствие чего, когда Карл был ранен и выбыл из строя, управление армией со стороны шведского генералитета оказалось малоэффективным [829].
По мнению А. Констама, в ходе Полтавской битвы король Карл XII вследствие своего ранения играл ненамного большую роль, чем обычный свидетель происходивших событий [830]. Это не вполне верно, но влияние короля на ход битвы, несомненно, было крайне ограничено, а главное, он не мог вдохновлять солдат и офицеров своим личным примером, что всегда делал раньше. В результате шведы оказались в непривычной ситуации отсутствия вождя на поле боя и утратили важное психологическое преимущество и моральный стимул к борьбе. Кроме того, как отмечает тот же Констам, снижение роли короля обострило противоречия и углубило недопонимание среди командования шведской армии, в особенности, между фельдмаршалом Реншельдом и генералом Левенгауптом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу