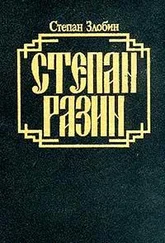Очнувшись в последний раз в каземате Уфимского магистрата, Салават в темноте нашарил возле себя кувшин с холодной водой и приник к нему пересохшим, запекшимся ртом.
Память о последнем месте казни медленно возвращалась к нему, медленно доходило до, сознания, что эти нечеловеческие муки окончились, и, когда пройдут еще две недели, его уже больше не повезут под кнуты на новое место.
Мысль была еще вялой и сонной. У измученного страданиями юноши не было никаких желаний, все чувства притуплены. Сознание, что его били кнутом в последний раз, не вызвало ни облегчения, ни радости. Если бы оказалось, что он ошибся, что предстоит еще раз или даже два, три раза стоять у столба под кнутом, это не вызвало бы в Салавате страха перед новыми мучениями, не заставило бы сейчас забиться быстрее ленивое, едва бьющееся сердце...
Он хотел бы сейчас лишь согреться. Холод каменного темного подземелья мучил его больше, чем ощущение боли в изъязвленной и изрубцованной спине...
Вялая, едва живая мысль то гасла, то едва брезжила вновь... Салават вдруг вспомнил, что после кнута в Ельдяке ему должны были вырезать ноздри и каленым железом поставить клейма на лоб и щеки... В равнодушной безнадежности, охватившей его, он не думал уже о том, что рваные ноздри и клейма обезобразили его облик, мысль о том, что теперь, с клеймами и вырванными ноздрями, нельзя никуда скрыться, мелькнула уже, как привычная, не взбудоражив его сознания. Он вспомнил, что теперь предстоит путь на каторгу - далекий путь в какую-то крепость с чуждым, не запомнившимся названием. Хлопуша рассказывал Салавату о том, что такое каторга. Он представил себе и рудники, и соляные копи, и каменоломни...
Все это сейчас его не страшило...
Салават страдал больше всего от холода. Он подумал о том, что должны принести горячую воду, горячую пищу, а может быть, как бывало не раз, Наташа пришлет тихонько с солдатом горячего молока... Вот сейчас хорошо бы и водки...
Салават внезапно чихнул. Боль сотрясла искалеченное рубцами тело и вызвала слабый стон из груди Салавата. Он привычным движением очистил нос и вдруг ощутил, что нос его цел. Ноздри не вырваны... Пальцы его задрожали. Не веря себе, он ощупывал собственное лицо, лоб, мял и щипал себя за нос и за щеки, чтобы проверить, есть ли раны. Он не нашел их, и от сознания, что он еще не клейменный, его охватила внезапная дрожь лихорадки...
Он вдруг услышал, что за окном каземата шумит осенний ветер с дождем, почувствовал влажность соломенной подстилки, на которой лежал, вспомнил знакомые лица согнанных к месту последний казни башкир и русских, чей-то бодрящий голос, который несколько раз повторял в толпе: "Пока живы друзья, они не забудут друга".
- Они не забудут друга, - произнес Салават и услышал свой голос, как будто чужой, произнесший эти слова. - Не забудут! - вдруг почему-то уверенно, твердо повторил он еще раз, и сердце его забилось быстрее, грудь защемило радостною тоской. Он почувствовал голод и жажду жизни...
В окошке каземата забрезжил свет, по коридорам подвала зазвучали шаги солдат, зазвенели цепи колодников, послышался утренний шорох метлы, хлопанье тяжелых дверей, окрики...
Наташа в самом деле прислала ему горячего молока. Салават с жадностью выпил его, чувствуя, как тепло разлилось по всему телу.
Он позабыл о боли, терзающей спину, он не слыхал нудных, томительных шумов магистратского арестантского подземелья и заснул спокойным, бодрящим сном, свободным от бреда и сновидений, вливающим силы в сердце...
ГЛАВА ПЯТАЯ
Стоял сентябрь с шумным ночным буйством листопада. Осенний ветер с дождями тревожили арестанта. Надежда на жизнь и свободу крепла в нем с каждым днем, и оттого силы его восстанавливались быстрее.
Когда в первый раз после нескольких дней Салават осилил подняться с соломы и дотянулся выглянуть в окно, он был удивлен, что перед ним не двор магистрата, а, как вначале, широкая магистратская площадь, полная всяким проезжим людом. В это время глянуло сентябрьское яркое солнце из туч, и Салават распахнул окошко... Перед окном стоял часовой, тот самый, старый-старый солдат Ефим Чудинов, который его караулил так много дней. И, глядя на солнце, на площадь, на знакомое доброе лицо старого солдата, на пожелтелые листья, кружившиеся по ветру, он услыхал наверху знакомый тоненький голосок, который напевал над его окном им же сложенную и посланную через Чудинова песню, и вдруг Салават ощутил на своем лице какое-то непривычное выражение, - он почувствовал, что лицо его стало каким-то иным, не таким, как все это время, он даже коснулся в недоумении пальцами уголков своего рта и понял сам, что за долгие месяцы он в первый раз улыбался.
Читать дальше