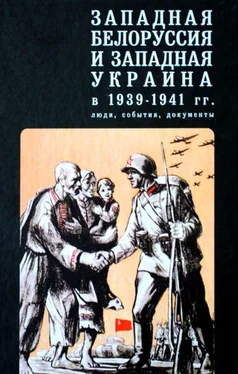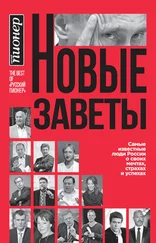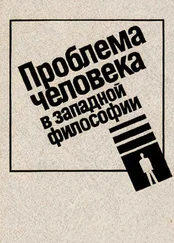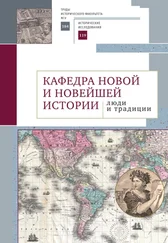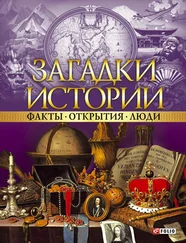Однако, во-первых, число подтвержденных документально обвинений относительно невелико, во-вторых, тяжесть наказания зависела от морального облика и классовой принадлежности жертвы. Например, работник штаба 4-й армии Бродовский изнасиловал во время военных действий девушку. Когда встал вопрос о его наказании, секретарь парторганизации встал на его защиту, так как девушка оказалась «из чуждой среды». Прокурор Малоритского района Брестской области Зуб требовал применения к крестьянину Коверда С. В., убившему коменданта польской полиции, высшей меры наказания, что крайне «изумило присутствующих на процессе крестьян», но областной суд вынес оправдательный приговор и указал на отсутствие в деле данных о социальном положении обвиняемых и потерпевших, которое затрудняет ориентацию. Более того, обком партии своим решением снял с работы райпрокурора, отметив, что такая практика «может вызвать неправильное толкование советских законов и правосудия».
Иначе говоря, теория революционной законности в понимании советских юристов вступила в противоречие с мнением высшего партийного руководства. Показательным является пример о действиях членов Военного совета 6-й армии Киевского особого военного округа Голикова и Захарова, которые 20 сентября 1939 г. в течение 24-х часов приняли постановление о расстреле главарей захваченной банды. В их число вошли 9 человек, личности которых не были установлены, поскольку документов при них не было. Прокурор 6-й армии и начальник политуправления РККА Л. З. Мехлис настаивали на снятии с должности и привлечении к ответственности этих членов Военного совета. Однако И. В. Сталин на письме Л. З. Мехлиса написал: «Предлагаю ограничиться выговором в приказе, где разъяснить ошибки виновных (в поступках обвиняемых не вижу злой воли, а есть лишь ошибки, непонимание)». В итоге было много случаев, когда наказания оказывались символическими.
Несмотря на отдельные примеры неблаговидного поведения военнослужащих, в целом РККА на территории Западной Белоруссии успешно выполняла функции поддержания порядка. Красная армия обеспечивала населению определенную безопасность, поскольку в условиях военных действий, массовых перемещений, беженства, отсутствия стабильной власти и органов правопорядка резко возрос бандитизм. Каждый день приходили сообщения о грабежах, налетах, погромах. Вооруженные «польские банды» не только нападали на подразделения Красной армии, но и грабили местное население.
Непосредственную угрозу социальной безопасности составляло всеобщее вооружение населения, явившееся одним из следствий похода. В руки местных жителей попадало как польское вооружение, так и боеприпасы, брошенные в походе красноармейцами. На Первой белостокской партконференции жаловались: «Нет такого кулака, богатого поляка, человека религиозного культа, у которого нет спрятанного оружия». Заместитель начальника НКВД по Белостокской области Бельченко доносил, что у населения Белостокской области сохранилось большое количество оружия, оставленного польской армией (не только винтовки, но даже орудия) и «враждебно настроенная часть населения оружие упорно скрывает». «Вылазок контрреволюционных элементов» ждали не только к выборам, но и к каждому новому советскому празднику. РККА в этих условиях была залогом стабильности и необратимости процессов смены власти. Так, женщины Радуни в день выборов в Народное собрание пришли на избирательный участок и потребовали, чтобы Красная армия не уходила из местечка.
Потребность в защите Красной армией возросла у населения в 1940 г., кода усилилось противодействие советской власти, связанное с ростом налогообложения и повинностей. Бедняки оказались между двух огней.
С одной стороны — опасность расправы со стороны польского подполья, угрожавшего убийством активистам в случае подозрения в помощи органам НКВД. С другой — репрессии со стороны советской власти. Так, по словам жителя Высоко-Мазовецка поляк находился «между двух огней, которые в любую минуту могут человека обречь на смерть. Если я буду помогать органам НКВД и об этом узнают поляки, то они меня убьют, а если я пойду за поляками, которые ведут работу против советской власти, то советская власть меня арестует и накажет, как преступника». 17 сентября 1940 г. житель Белостокской области заявлял: «Сейчас в Чижевский район пришли части Красной армии, теперь я не боюсь, что меня могут убить, теперь я могу жить и работать спокойно, приход частей Красной армии оживил меня в моральном отношении, я боялся повстанцев, которые производят террористическую деятельность над активистами советской власти, и всеми теми, кто помогает советской власти» [381].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу