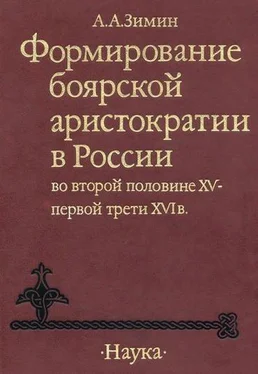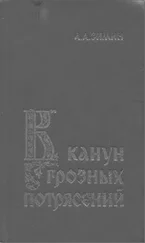Между тем дело дошло и до самого Шемячича. Это надо связывать с походом Мухаммед-Гирея 1521 г. Шемячич ничего не сделал для его предотвращения. В 1522 г. Василий III, прибыв на Коломну, «въсхоте» послать Шемячича и воевод на Мухаммед-Гирея, [784] Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1973. С. 161 (в летописном тексте ошибочно Ахмат-Кирей; ср.: ПСРЛ. Т. 34. С. 13—14).
но поход не состоялся. Тогда новгород-северского князя обвинили в измене и вызвали в Москву. Он согласился приехать туда лишь после того, как получит охранную грамоту, скрепленную «клятвою государя и митрополита». Митрополит Варлаам не согласился пойти на клятвопреступление и в конце 1521 г. оставил митрополичий престол. Его место занял податливый Даниил, который согласился дать «крестоцеловальную запись» с тем, чтобы вызволить «запазушного врага» в столицу. 18 апреля 1523 г. Шемячич прибыл в Москву, с почетом был принят Василием III, но вскоре был схвачен и брошен в тюрьму. Причиной гибели Шемячича Герберштейн, ссылаясь на слухи, называет то, что Шемячич послал киевскому наместнику письмо, адресованное польскому королю, в котором содержалось сообщение о готовности перейти на его сторону. Киевский наместник переслал письмо в Москву. Вариант, близкий к тому, что было предметом расследования в 1518—1519 гг. Скорее всего, это полуофициальная версия. Сам же Герберштейн склонялся к другой. Один Шемячич оставался на Руси крупным властителем, и «чтобы тем легче изгнать его и безопаснее властвовать, выдумано было обвинение в вероломстве, которое должно было устранить его». [785] Герберштейн. С. 109—111.
Во время февральского процесса 1525 г. Федор Жареный рассказывал о том, как ему говорил Берсень Беклемишев о своем разговоре с митрополитом. Даниил воздавал хвалу богу, что тот избавил Василия III от «запазушного врага» (Шемячича), позабыв, что он сам вероломно нарушил присягу, пообещав в грамоте, которую он писал к Шемячичу, полную неприкосновенность. [786] ААЭ. Т. I. № 172. С. 144.
Но не все деятели церкви были столь беспринципны. В 1524 г., когда Василий III был в Троицком монастыре, с просьбой о помиловании северского князя выступил игумен Порфирий. Дело, однако, кончилось ссылкой самого строптивого игумена. [787] РИБ. Т. 31. Стб. 326—329.
Умер Шемячич в заточении 10 августа 1529 г. [788] ПСРЛ. Т. 22, ч. 1. С. 522; Т. 30. С. 203. В марте 1524 г. был еще «на Москве» (Дунаев. Максим Грек. С. 59).
Сохранилась любопытная запись на надгробной плите, что в 1561 г. в Троицком монастыре умер «больничный старец», Иоанн Васильевский Шемячича, по прозвищу «Севрюк». Обычно он считается сыном Шемячича. Но П. А. Садиков предполагал, что это был один из «людей» княгини. [789] Николаева Т. В. Новые надписи на каменных плитах XV—XVII в. из Троице-Сергиевой лавры // Нумизматика и эпиграфика. М., 1966. Т. VI. С. 227—229; Садиков П. А. Последние Шемячичи. Рукопись // ЛОИИ. Ф. 263 (П. А. Садикова). № 8.
Троицкий монастырь продолжал оказывать знаки внимания потомкам того самого Дмитрия Шемяки, которого он энергично поддерживал еще в годы феодальной войны второй четверти XV в. Жена Шемячича и две дочери кн. Василия были пострижены в монахини и отправлены в Суздальский Покровский девичий монастырь, где и умерли. [790] См. разрядную книгу, опубликованную в «Зап. Отд-ния русской и славянской, археологии Археологического о-ва» (СПб. 1851. Т. 1. Отд. 1. С. 105). Между 1534 и 1547 гг. Иван IV выдал грамоту старице Евфимии Шемячичевой на сельцо Глядково Суздальского уезда (АИ. Т. 1. № 145). В Государственном архиве хранилась какая-то грамота «Шемячичевские княгини» (ГАР. С. 43 (ящик 26), 154). Князь Юрий Васильевич Путятин, служивший в Литве, был женат на сестре Василия Шемячича (Родословная книга по трем спискам. С. 86).
Князья Глинские
Летом 1508 г. на Русь выехал один из крупнейших магнатов Великого княжества Литовского — Михаил Львович Глинский со старшим братом Иваном Мамаем и братом Василием Слепым. [791] М. Е. Бычкова обратила внимание на очень интересную память, содержащую сведения о происхождении кн. Михаила Глинского и его службе в Москве (Лихачев. С. 417—418). См.: Бычкова М. Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания // Зап. Отдела рукописей ГБЛ. М., 1977. Вып. 38. С. 107—125.
При этом он получил «в вотчину Ярославец и Боровеск в кормление». Соседняя Медынь была дана в вотчину братьям кн. Михаила Ивану и Василию, а другие выехавшие с ними князья и дворяне получили поместья и кормления. [792] ПСРЛ. Т. 8. С. 250; Новое о восстании Михаила Глинского в 1508 г. // СА. 1970. № 5. С. 72—73.
Пожалование кн. Михаила Глинского в придачу «кормлением» было новостью в практике награждения служилых князей, известным шагом в ограничении их суверенитета. В данном случае московское правительство использовало опыт обеспечения выезжавших на Русь татарских царевичей, получавших города «в кормление».
Читать дальше