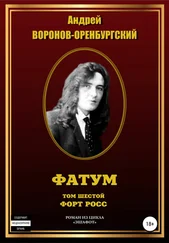– Так точно, дурак. Я всё понимать – понимаю, да объяснить не мастак. – Он улыбнулся насилу ясной, простой, ребяческой улыбкой. И странно было видеть её на буром угрюмом лице, будто по каменистому утёсу, посечённому дождями и ветрами, скользнул, взбрызгивая и играя, яркий солнечный зайчик. – Но, знай, комбат, – Кошевенко поднял постаревшее не по годам от войны лицо, и стукнул кулаком себя в грудь. – Я от самых кишок, от всего сердца…ценил, уважал тебя, хоть и бывало…искрило меж нами.
От этих по-фронтовому скупых, но правдивых слов у Магомеда что-то ёкнуло в груди, запершило в горле. Он снял левый рукой, ещё не линялую, новую фуражку, выданную Радченко, взамен прострелянной, шагнул навстречу. Они крепко обнялись, словно прощаясь навсегда, но убеждённый голос с кавказским акцентом был категоричен и неумолим, как дагестанский булат.
– Ты мне эту мистику брос, капитан! Надежду из людей не вытряхивай, как табак из портов! Не вздумай перэд ротой такое брякнуть! Клянусь Небом, на части разберу до винтика. Дратца будэм! Родину защищать! Жить будэм, капитан Кошевенко! Это приказ.
– Есть, товарищ комбат. Да это я так, на всякий пожарный…с кем не бывает?
– Со мной нэ бывает! Дошло-о?
– Точно так. Будем глотки рвать фашистским псам.
– А теперь ср-рочно перэдай по линейке: командиры рот и взводов, пулей ко мне!
Ржавый бинт вокруг головы, под лихо сбитой на затылок фуражкой, мелькнул среди кирпичных развалин и был таков. Грязные льдины-обломки бетонных плит, перекрытий, расколотых лестничных маршей, разбитые кирпичные кладки схваченные пушистой изморозью дышали, журчали, тихо постанывали, клацали затворами, матерились – ждали боя.
…а голос несравненной Шульженко, лёгкий, игривый, с вкрадчивой, доверительной нотой, выводил последний куплет:
Помнишь, при нашей разлуке
Ты принесла мне к реке
С лаской прощальной
Горсть незабудок
В шёлковом синем платке?
И мне не раз
Снились в предутренний час
Кудри в платочке,
Синие искры
Ласковых девичьих глаз…
Он снова поднял бинокль к глазам, как беркут, стерегущий свои границы, всматривался-скользил взором по противной стороне.
В голову в эти звенящие напряжением минуты лезло разное; душу сжимали тиски обречённости, беглая память воскрешала надтреснутые голоса стариков, собиравшихся на годекане:
– Бисмилах…Травой зарастают могилы героев…Но давностью не зарастает боль.
– …Ветер, зализывает следы ушедших на бой джигитов за свой кров, честь и веру….Залижет время и кровяную боль и память тех, кто не дождался родимых и не дождётся, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы…
– Вот потому, мы никогда не должны забывать о могилах наших отцов!
Помните: все мы стоим на плечах наших предком, смотрим их глазами по-новому на окружающую жизнь…Живём и растим детей на их могилах. Всегда любите и до последнего вздоха защищайте с оружием в руках свой край, свою саклю, свой колодец, мельницу, кузницу, родник. Мясо с кровью, храбрец – с победой. Смелость сохраняет аул…И если мы помним заветы предков, чтим их вековые адаты и следуем дорогой отцов, – они оживают…
…Зоркий взгляд комбата продолжал парить, пошагово фиксировал любые передвижения на передовой врага, отмечал: застывшие в нетерпении танки и бронемашины, серые цепи карателей. Их автоматы были нацелены на улицы, сады и заборы, развалины и подъезды безглазых домов, в которых засели и окопались танкаевцы.
Но если глаза считывали заслоны и группировки врага, память по-прежнему неподотчётно выхватывала из былого забытые фрески.
…Вспомнилась вдруг из далёкого детства яркая-горькая метина. Эхо гражданской войны было жестоко, как никогда…Горные тропы и камни кровью пропитаны…Как-то под вечер в Ураду приехал на чёрном коне чужак. Весь в дорожной пыли. В черкеске при газырях и бурке, обвешанный оружием, со страшным громадным маузером в деревянной кобуре. Лицо по самые глаза закрыто траурным башлыком.
Маленький Магомед помнил: конь остановился у соседской сакли, что лепилась стеной к стене их дома – Танкаевых. Громкий голос чужака, похожий на сердитый грай ворона, наполнил двор, распугал домашнюю птицу. На его призыв выбежали домашние; всадник снял с седла и передал из рук в руки кожаный хурджин их сына, убитого в горах. Приложил руку к груди, склонил голову и ускакал.
Весть птицей облетела весь аул. Люди, побросав дела, потянулись к дому осиротевших одноаульцев. Пошёл передать свои соболезнования и отец Танка…
Читать дальше