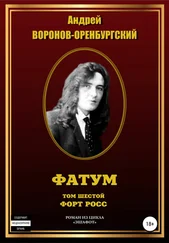Но больше другого из этой истории в его детской памяти запечатлелось лицо той несчастной матери у которой убили сына.
Она билась головой о жёсткую землю, грызла деревянные ступени крыльца от горя…А потом сидела на земле с пустым обезумевшим лицом, исцарапанным в кровь ногтями и тихо скулила, выла, как смертельно раненая волчица.
…Он помнил: как она, безутешная, развязав хурджин, перебирала старое бельё сына; точила горькие скупые слёзы, принюхивалась, но лишь последняя нательная рубаха-хIева, привезённая грозным чужаком, по-всему хранила в складках запах сыновьего пота, и припадая к ней головой, качалась старуха и снова скулила, узорила полотняную грязную рубаху слезами…
Комбат Танкаев в тяжёлом раздумье отпустил бинокль на грудь, сурово посмотрел на длинные грязные цепи своих стрелков. К горлу подкатил горький полынный ком…В голове горячей пулей мелькнула мысль. «Вай-ме! Сколько же любящих матерей…не дождутся после этой жуткой войны своих сыновей…»
…теперь из немецких динамиков, точно в злую насмешку над отчаянным положением защитников Сталинграда, с ухарским бесшабашным весельем, сыпался поддужным бубенцом заливистый голос Лидии Руслановой:
Валенки, валенки-и!
Э-эх не подшиты стареньки!..
Комбат Танкаев болезненно близко к сердцу, воспринимал эти психологические «дивертисменты» врага, как личное оскорбление, как ядовитый плевок в душу. В жилах бурлила горская кровь, до ожога хотелось отдать приказ миномётчикам старшего лейтенанта Макарова накрыть и разнести к чёртовой матери этот подлый, кощунственный балаган! Но он давил в себе эти эмоции, неистребимой командирской волей. Потому, как отлично знал: именно на такую нервическую, крайне опасную, деструктивную реакцию людей, загнанных в угол, и рассчитывал вероломный враг.
Этой минутой следовало сконцентрироваться на другом: ободрить и напутствовать своих офицеров. Он по себе усвоил: с отцовским командирским напутствием легче отбивать атаки врага, идти на огонь пулемётов, в штыки…
Танкаев посмотрел на своих взводных и ротных, стоявших у кирпичной стены, освещённых холодным латунным солнцем. На касках и козырьках фуражек стыл хмурый отсвет светила. На стволах автоматов, на пуговицах шинелей, на оптических трубках биноклей был тот же тусклый шафрановый свет. И на одубевших скулах, сжатых губах, заострившихся подбородках. Поймал себя на мысли: сколько ж было уже таких построений-напутствий! И всё новые, новые лица, пришедших на смену убитым. Чуть больше задержал взгляд на двух старлеях морской пехоты: морёные ветром-порохом, кирпичного цвета, жёсткие лица. «Чёрная смерть» в линялых тельняшках, мятых «бесках» с гордо реющими на ветру гвардейскими лентами, с упрямыми складками ртов.
– Почему не в касках? – боднул вопросом комбат.
– Мы ж в морские, нам и так не капает, командир, – с едкой бравадой прозвучал ответ.
– Ракушки значит, ну-ну…Поглядим на вас хвалёных в бою.
– А ты испытай, командир, – с вызовом сказал высокий, плечистый, с крепкой, розоватой, как буковый ствол, шеей, с мускулистой грудью молотобойца, выступавшей из растерзанного тельника. Другой ниже ростом, кряжистый, как краб, потёр набитые в драках костяшки грязных кулаков, на которых пестрели старые рубцы-зарубины, краснели два свежих ножевых пореза.
– Немэц вас испытывает, рэбята. Тепер уж нэдолго ждать. В рукопашке? – комбат кивнул на бордово-чёрные порезы.
– Так точно, товарищ майор. Третьего дня, на грёбаном Мамае…Из нашей роты, – кряжистый старлей стиснул железные челюсти, сипло продолжил, – четверо нас вернулось…Вот, к вам перевели теперь.
– Вас, как зовут, командир? – пробасил высокий, плечистый.
– А меня нэ зовут, нарочито мрачно усмехнулся майор. – Я сам прихожу, когда надо.
Морпехи вместе с другими командирами одобрительно хохотнули.
– Комбат Танкаев, Магомед Танкаевич. – Он подал руку.
– Гвардии старший лейтенант Пилымский!
– А имя?
– Валерий.
– Гвардии старший лейтенант Туровец…Алексей.
Комбат положительно оценил крепость рукопожатий морпехов.
Хотелось верить, что оба останутся в живых. Отобьют атаки фашистов, сами поведут в контратаку своих полосатых чертей, прорубятся, промчатся сквозь кровавый снег короткого дня, чтобы в сумерках, в чернеющем свинце, забыть навсегда об этом латунном, негреющем солнце. Будут у печурок-костров бинтовать ушибы и раны, чистить оружие, устало хлебать из котелков, снисходительно слушать солдатский трёп о бабах; забываться на обгорелых досках и драных щуплых матрасах обморочным тяжёлым сном.
Читать дальше