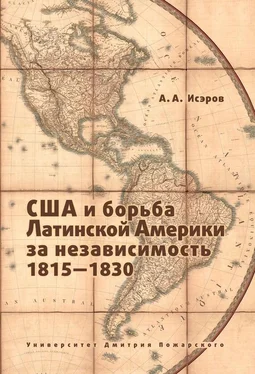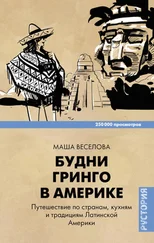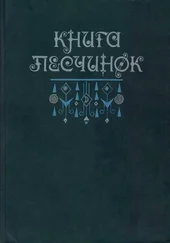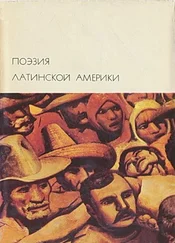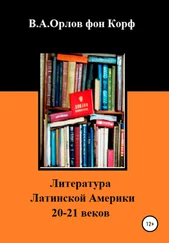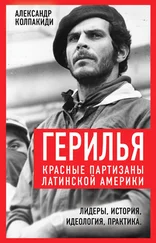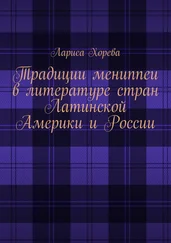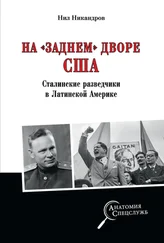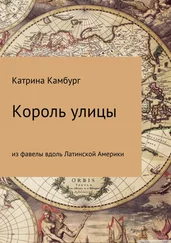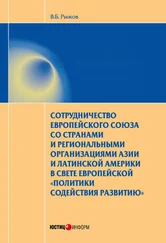Ни среди многих десятков тостов на праздновании 4 июля 1831 г., ни, скажем, в праздничной редакционной статье в “National Intelligencer”, упоминания о внешних делах почти полностью отсутствуют. Кому была теперь интересна мировая политика, когда народное внимание было приковано к раздиравшим Север и Юг спорам о тарифе! Разве что в Вашингтоне один из присутствующих вспомнил о новом фаворите либерального мира – на сей раз внимание пламенных республиканцев привлекла восставшая против России Польша [1472]. 7 июля столица узнает о смерти другого героя нашей истории, Джеймса Монро, – подобно Джефферсону и Адамсу, он умер в День независимости. Трагедия Латинской Америки и ее Освободителя к тому времени уже перестала волновать северного соседа.
О свергнутом кумире забыли надолго. Среди редких упоминаний его имени в североамериканской прессе – заметка под псевдонимом «Тацит», где автор не просто высмеивает уподобление Боливара Вашингтону, но и ставит его ниже Наполеона – последний, по крайней мере, не оставил после себя анархию [1473]. В 1844 г. автор книг для юношества (и бостонский издатель мемуаров Дюкудре-Гольштейна!) Сэмюэль Гудрич (1793–1860) так писал о Боливаре: «Одно время в нем видели одного из величайших людей нового времени. Теперь он почти забыт (курсив мой – А. И.); другое поколение, может быть, увидит возрождение его славы». Писатель оправдывает своего героя: «Боливара нельзя судить по мерке, которую мы применяем к характеру и достоинству Вашингтона. Хладнокровные, размеренные, умные и хорошо образованные североамериканцы, которые достигли независимости со сдержанностью, трезвостью и самоограничением, вызвавшими овацию (applause) и восторг всего мира, были совсем иным племенем (race) по сравнению с разнородным населением Колумбии, невежественным, непочтительным, суеверным, фанатичным, жестоким, мало продвинувшимся в цивилизации и подверженным любым внезапным порывам скорого и огненного южного темперамента. Посреди ревнивых фракций такими людьми невозможно было править с помощью слабого инструмента писаной конституции» [1474]. Что ж, возможно, с этими словами согласился бы и сам Боливар.
В 1820-е гг. именно Боливар оказался для мира воплощением всей латиноамериканской революции. И его трагические последние годы, отчаянная борьба против сепаратизма и утрата доверия на родине и в мировом либеральном сообществе окончательно убедили североамериканцев, что южные соседи им совсем не «братья»: для рациональных республиканцев США Освободитель стал грустным символом неготовности бывших испанских колоний к независимости, доказательством общей истины – в необразованной стране невозможна такая роскошь как свободное правительство. Порой (и все чаще) разочарование носило расистский и антикатолический оттенок – «папистские» потомки южан-испанцев и индейцев недостойны республики. Особое недоверие вызывали стремления сохранить традиционное влияние церкви, опереться на армию как мотор социальной реформы, законодательно сдержать натиск фритредерского капитализма.
Образ Боливара как байронического романтического героя, гибнущего в схватке с судьбой, оказался чужд бодрому молодому духу Северной Америки. И Боливар, и его критики в США постоянно повторяли одно слово – «свобода», но понимали это понятие по-разному. Боливару, ставившему «общественную свободу» выше индивидуальной, было тесно и скучно в рамках классического англосаксонского либерализма, в котором североамериканцы видели воплощенный общественный идеал.
О Боливаре вспомнят в США в конце XIX века, когда панамериканизм встанет на политическую повестку дня. Ему вновь будут петь панегирики, большие города украсят памятники Освободителю, обычно полученные в дар от государств Латинской Америки. К тому времени усилия мемуариста Даниэля Флоренсио О’Лири и аргентинского писателя и политика Доминго Фаустино Сармьенто (1811–1888) окончательно вернут Боливару славу создателя независимой Испанской Америки. Но это уже совсем другая история.
Война за независимость Латинской Америки стала важным испытанием как для внешней политики, так и для общественной мысли Соединенных Штатов. За короткий срок североамериканцы, по сути, впервые «открыли» для себя огромный иберийский мир, ставший одним из основных источников международных новостей. Они оценивали увиденное, руководствуясь либо идеологией Просвещения, классического республиканизма и нарождающегося либерализма, либо старыми национально-религиозными предубеждениями «черной легенды».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу