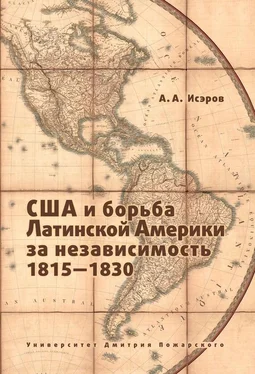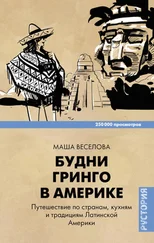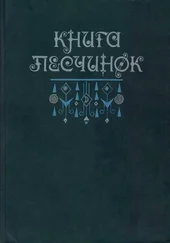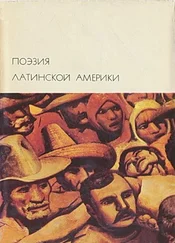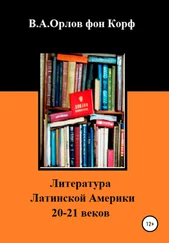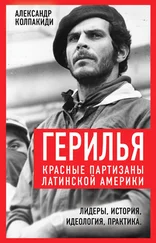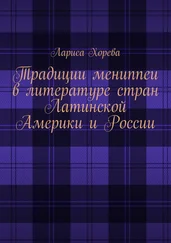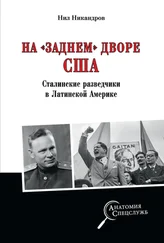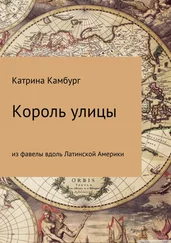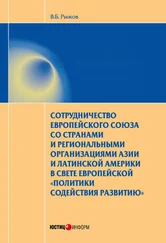Увы, мысль о единстве Западного полушария зачастую входила в противоречие с ожесточенной фракционной борьбой в среде самих революционеров, чему североамериканцы часто были свидетелями. Наиболее показательна здесь деятельность Карреры и его «партии», расколовшая, например, латиноамериканскую комиссию 1817–1818 г. и явно ослабившая позиции патриотов. Очевидно, впрочем, что хотя сами «южные братья» любили прибегать к арсеналу «идеи Западного полушария», они никогда бы не пошли на заключение панамериканского союза под эгидой Соединенных Штатов, как это предлагал Клей в 1821–1824 гг.
Лояльный администрации Конгресс не поддержал радикальных предложений Клея, но дебаты по его резолюциям оказались весьма плодотворными. В их ходе был внесен заметный вклад в развитие понятий, названных затем доктриной Монро, – обобщенного выражения давно складывавшихся представлений о целях внешней политики Соединенных Штатов. Дальнейшую разработку получила теория «естественных границ» – первый шаг к «предопределению судьбы» 1840-х гг.
Путь к признанию независимости бывших испанских колоний открыли ратификация Трансконтинентального договора и приобретение Флориды. После 1821 г. Адамс уже мог не опасаться Испании. Несмотря на все усилия Клея, признание государств Латинской Америки совершилось в итоге по инициативе исполнительной, а не законодательной власти.
В историографии высказывались упреки Клею в недипломатичное™, преждевременности его антииспанских по своей сути выступлений до ратификации Трансконтинентального договора. Однако в результате его радикальные предложения, оказывая психологическое давление на Испанию, только способствовали скорейшей ратификации договора 1819 г. С 1817–1818 гг. Клей, и его сторонники в прессе убеждали власти и общественное мнение в неизбежности признания независимости испанских колоний. Но в том, что южные соседи вскоре получат независимость, не сомневался и сам Адамс. В конечном итоге Клей и Адамс не противостояли друг другу; каждый по-своему способствовал общему делу – росту территории и могущества Соединенных Штатов, что и обусловило внутреннюю логику их примирения в 1824 г.
2) Следующая стадия охватывает 1822 – начало 1826 г., от признания независимости латиноамериканских государств до Панамских дебатов по вопросу участия США в первом межамериканском конгрессе. Настал краткий миг триумфа «идеи Западного полушария». Признание независимости Латинской Америки поддержали все общественные силы – и будущие виги, и будущие демократы.
Само слово «Америка» становилось нарицательным, означая либерально-республиканский, свободный, служило антонимом Европе, монархии, деспотизму. Не случайно первый посланник в Мексике Джоэль Пойнсет окрестил партию йоркинос, в создании которой сам участвовал, «американской». По сути, белый англоязычный мир утверждал монополию на слово «Америка», на трактовку понятия «американский», против чего, кстати, уже в те годы выступил мексиканский революционер Хосе Сервандо Тереса де Мьер, а позднее, в конце XIX в. – кубинец Хосе Марти (1853–1895) с его лозунгом «наша Америка» (nuestra America).
Североамериканцам льстило, что революционеры-креолы охотно обращались к идейному арсеналу 1776 года. Пусть профессиональный юрист Брэкенридж в 1819 г. предупреждал, что прямой перенос конституционного опыта США на латиноамериканскую почву невозможен [1475], янки (агент в Буэнос-Айресе и Чили Уильям Уортингтон, посланник в Перу Сэмюэль Ларнед (1788–1846), колонизатор Техаса Стивен Остин) увлеченно составляли для молодых государств проекты основных законов, естественно, по федеративному образцу
Большинство североамериканцев разделяли тогда убеждение в конечном успехе преобразований в Латинской Америке – убеждение, основанное на вере в прогресс, а не на знании иберийской культуры. Не случайно, что многие из идейных сторонников революции принадлежали к направлениям протестантизма, ставящим индивидуальное начало над коллективным и верящим в возможность действенных общественных реформ, в целом – деноминациям универсалистским, а не партикуляристским: Иезекия Найлс, Уильям Торнтон, Джозеф Ланкастер были квакерами, Джаред Спаркс – унитарием.
Объявление 2 декабря 1823 г. доктрины Монро с ее принципами неколонизации, невмешательства и «неперехода» не несло никаких обязательств, но утверждало заявку на ведущую роль в полушарии. Провозгласив ключевую роль региона для безопасности США, доктрина Монро подчеркивает не только историческую, но и географическую близость обеих Америк, хотя последняя во многом являлась всего лишь производной меркаторовской проекции, ведь путь из Нью-Йорка в Лондон занимал меньше времени, чем, например, в Буэнос-Айрес или тем более в Вальпараисо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу