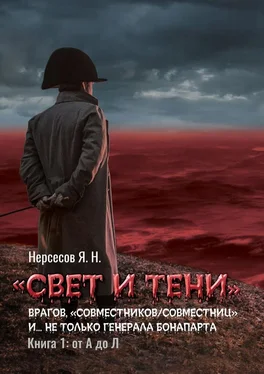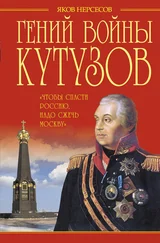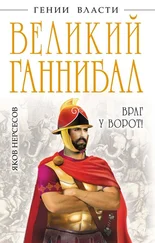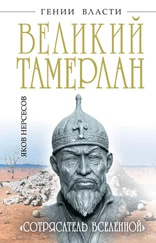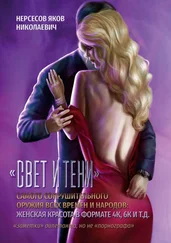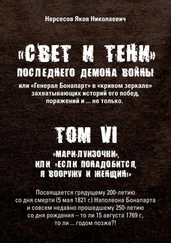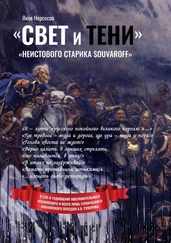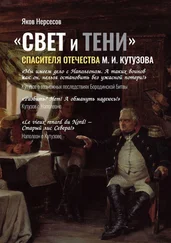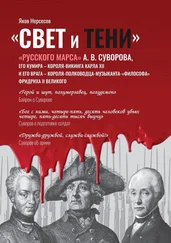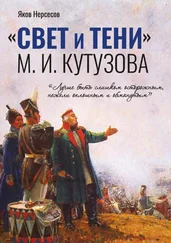… Кстати сказать, судьба другого, тоже внебрачного отпрыска Константина Павловича не столь ординарна. Константин Иванович Константинов был прижит им от французской актрисы Клары-Анны де Лоран. Он был на десять лет моложе своего старшего брата Павла Александрова, мирно скончавшегося в 1857 году. Младший сын цесаревича родился в начале апреля 1818 года в Варшаве и при рождении был назван Константином Константиновичем. Но потом его усыновил адъютант великого князя Иван Александрович Голицын, а потому отчество приемного сына изменилось. Константин Иванович получил хорошее образование, в частности, уроки музыки ему давал сам юный Шопен. После смерти Великого Князя Константина Павловича в 1831 г. мальчик с матерью и своей сестрой Констанцией, которую также принято считать внебрачной дочерью великого князя, переехал в Петербург. Князь Голицын направил «своего» приемного сына учиться в артиллерийское училище. Как оказалось, это стало его подлинным призванием. Он стал изобретателем в области артиллерии и ракетной техники. Константинов был и одним из первых русских исследователей воздухоплавания, но, все же, главной его страстью оставались ракеты – всю жизнь он занимался именно ракетными двигателями, руководил в Николаеве строительством первого ракетного завода и не дожил до его открытия совсем немного. Второй внебрачный сын нашего героя Константин Константинович умер 12 января 1871 г., навеки войдя во все справочники и энциклопедии, касающиеся космоса, вплоть до того, что один из кратеров на Луне назвали в его честь – Константин Константинов. Так бывает…
В начале царствования своего старшего брата – с 1801 по 1804 гг. – Константин Павлович энергично «ударился» в совершенствование армейских дел. Это было сугубо в его духе: ничего масштабного, но мелкие уточнения, поправки, подсчеты и т. п. и т. д. Особо «пострадали» кавалеристы. Так любимой «военной игрушкой» нашего великого князя с 1803 г. стал Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича Уланский полк, где главным были красота формы и бесподобное сидение в седле. Очень скоро служить в уланах Его Императорского Высочества стало сколь престижно, столь и модно, и многие гвардейцы стали проситься в полк, но им, как правило, отказывали: Константин Павлович не желал, чтобы «старшие» (тертые гвардейцы), помыкали младшими – уланами. Его командиром стал популярный кавалерийский офицер генерал-майор барон Егор Иванович Меллер-Закомельский. Полк был блестяще экипирован, но плохо обстрелян и участь его незавидна: вскоре он оказался на австро-русско-французской войне 1805 г. и сходу (с марша) брошенный в атаку под Аустерлицем почти полностью полег! (Впрочем, эта драматическая история хорошо освещена в отечественной публицистике разных «исповеданий»! )
Потом случились новые военные потрясения – драматическое поражение под Фридляндом – его любимые гвардейцы, на которых он орал благим матом на плацу, но ссужал деньгами из собственного кармана на еду, снова геройски-бездарно гибли сотнями и тысячами. А ведь он очень любил «быть» Отцом Солдат, точнее, играть его роль. Помогая своим подчиненным, в том числе, и солдатам, деньгами он никогда не требовал их возвращения, посещал их вне службы, ходил на солдатские свадьбы, был крестным отцом новорожденных. И в цесаревиче от этих катастроф что-то сломалось: он перестал любить войну (после смерти Суворова, а его Константин, как и многие другие, почитал особо, она перестала быть победоносной для русского оружия) и предпочел сосредоточиться на том, что ему было более всего в военном деле по душе – на парадном фрунте. Здесь он снова был гневлив и непредсказуем, но его гвардейцы не превращались в наглядное «пушечное мясо»! Константин Павлович был одним из тех в ближайшем окружении императора Александра I, кто, наглядно увидев каково воевать с Бонапартом, ратовал перед братом за немедленный мир с ним в Тильзите.
Затем громыхнула «гроза 1812 года», в которой наш герой «оказался не в своей тарелке» и это еще мягко говоря. Он – командующий 5-м (гвардейским) корпусом – все время «фрондировал» с командующим 1-й Западной армией Барклаем де Толли, мешал тому в его крайне нелегкой работе: осуществлять планомерное отступление вглубь России без генерального сражения, в котором одолеть Великую армию Бонапарта было исключительно трудно. Великий Князь сначала громко ратовал за заключении мира с Наполеоном, потом требовал немедленного перехода в наступление. Барклай его не раз под разными «весомыми» предлогами удалял из армии, но он – будучи цесаревичем со всеми вытекающими из этого последствиями-привилегиями – каждый раз «словно феникс из пепла», все же, снова оказывался в войсках и по-прежнему начинал «чудить» по-старому —«вставлять палки в колеса» Барклаю. И, тем не менее, в тяжелейшие периоды Отечественной войны 1812 года, в ключевых сражениях, так сложилось, что он участия не принимал. Цесаревич снова оказался в действующей армии только после того когда победа русских в этой войне стала делом решенным , т.е. в декабре 1812 г., в Вильно.
Читать дальше