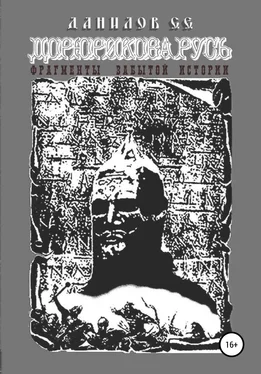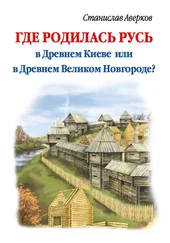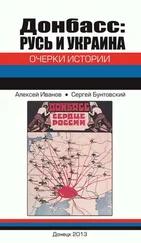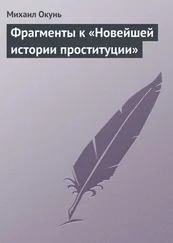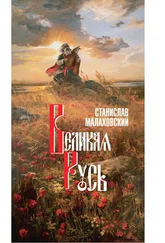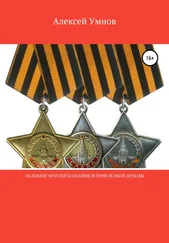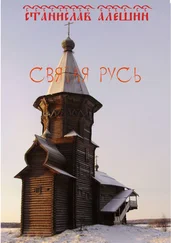Не причисляли себя к русинам и жители Смоленской земли, что явно вытекает из рассказа о походе Изяслава Мстиславича на Волгу в 1148 г. На устье Медведицы он соединился с новгородцами, а потом пришел его брат Ростислав «с всими рускыми силами, полкы, и с Смоленьскими» [Тихомиров, 1979]. Разумеется, кривичи себя никогда исконными русами и не считали, а именно кривичское происхождение имеет население древнейшего поселения, предшествующего Смоленску.
Еще в начале XV в. совершенно четко разделялись понятия «Русь» (древнейшая часть) и «Русская земля» (позднее формирование), возникшее вследствие колонизационных завоевательных походов русских князей. Из-за произвольного смешения «Руси» и «Русской земли» очевидно и пошли все неясности в определение их действительных границ. Начали этот процесс смешения поздние (по сравнению с IX-Х вв.) летописцы, а углубили некоторые историко-исследователи. Усугубилось это явление в наше время с обострением российско-украинских противоречий. Поэтому, когда украинцы кричат, что древняя Русь – это Киев, то великороссам ничего не остается, как ответить, что ничего подобного – начало Руси положил Новгород. Между тем, многим специалистам прекрасно известно, что оба вывода ошибочные.
В IX веке Новгород ещё не существовал, а именно к этому веку и даже к его первой половине относятся стопроцентно надёжные сведения о внешнеполитической активности некоей «Руси»: нападение на византийскую Амастриду до 842 г., русские послы появляются у императора франков (839 г.), сведения Баварского географа о Руси в Восточной Европе (между 830 и 850 гг.).
Что касается Киева, то в начале IX века он, разумеется, существовал, но был обычным средним поселением славян, скорее всего, на тот момент платившим дань Хазарскому каганату. Вернее, в этот период зафиксированы целых три поселения на месте будущего Киева, только в X веке слившимися в один город. Жизнедеятельность Киева того периода не подтверждает бурную внешнеполитическую активность, требующую высокую развитость как города, так и многочисленность его населения. Отдельные поселения на Замковой горе, Подоле и Старокиевской горе слились только в X веке в единое поселение городского характера. В конце IX века резко увеличивается численность населения Киева, но скандинавские древности появляется только в первой половине X века и носят единичный характер [Комар, 2012].
Далее перейдем непосредственно к Рюрику. При чтении содержания летописей о варяжской легенде, первое что поражает, разумеется, информированного читателя, что легенда является неким инородным телом (или одним из инородных тел) в общем повествовании летописца. Академик Шахматов, внимательно изучивший летописные своды выделял несколько версий о призвании варягов, в том числе и версии, которые были первичны по отношению к другим [Шахматов, 1904]. Что же мы видим по результатам проверки различных хроник, касательно употребления слова «варяг»?
Первые письменно зафиксированные сообщения в источниках о славянах относятся к VI в., а о русах – к VIII-IX вв., то о варягах на протяжении IX и X вв. – то есть якобы в разгар их государственной и градостроительной деятельности – нет ни одного упоминания, ни в иностранных, ни в древнерусских источниках. Первые – краткие и неопределенные – сведения о них относятся к 30-м годам XI в. Причем появляются они практически одновременно в разных по происхождению источниках: восточных, византийских и древнерусских.
Первое известное на сегодняшний день иностранное свидетельство о варягах принадлежит хорезмийскому ученому Абу Райхану ал-Бируни. В «Книге вразумления начаткам науки о звездах» (1029/1030 гг.) он упоминает о варягах как народе «варанк», живущем на берегу «бахр Варанк» (моря Варанков) и как народе, обитающем за «седьмым климатом» (т. е. севернее земли русов, славян и булгар) [Федотова, 2016].
Еще одно сообщение о варягах в восточных источниках XI в. содержится в грузинской летописи Картли. В ней говорится об участии отряда в семьсот варягов в Сасиретской битве между войском грузинского царя Баграта IV и его мятежным вассалом Липаритом Багваши. Точная дата этого сражения неизвестна, историки определяют ее в интервале 1040–1047 гг. [Там же].
Разумеется, Федотова ошибается насчёт первых упоминаний о русах. Они известны если по убыванию и в VII, VI веках и даже до н.э., но об этом будет разговор впереди. Из византийских же авторов первое сообщение о варягах (под 1034 г.) содержится в «Обозрении истории» византийского хрониста XI в. Иоанна Скилицы. И не менее веским и убедительным фактом является полное отсутствие этнонима «варяги» у арабоязычных авторов IX и X вв.: Ибн Хордадбеха, Ибн Русте, ал-Джарми, Ибн Фадлана, Масуди, довольно много писавших о народах Восточной Европы, в том числе о славянах и русах.
Читать дальше