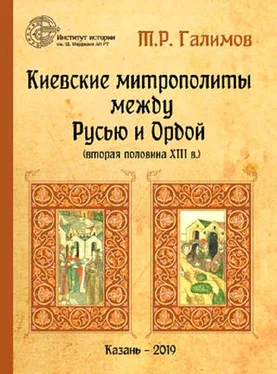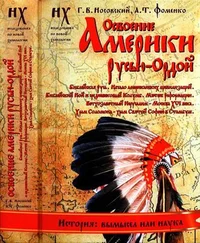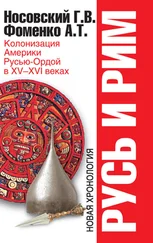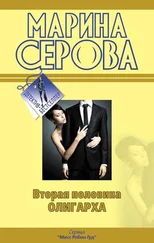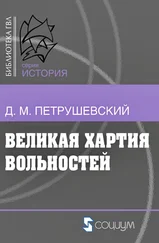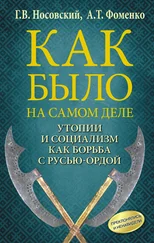Содержание работ, изданных в первые два десятилетия строительства социализма, отражало всю гамму эмоций, связанных с постреволюционным отрицанием прежнего историографического опыта. Как и для многих иных произведений этого периода для них характерны крайние идеологические марксистские концепции, построенные на теории непримиримой классовой борьбы. Практически во всех них присутствует острое антиклерикальное звучание.
Основу второй группы составляют работы по истории Золотой Орды, созданные в предвоенное и послевоенное время. В своей основе они сформировалась за счет единой и во многом категоричной линии, построенной на рассмотрении истории монгольского нашествия в контексте отражения агрессии. Все это вписывалось в умонастроения эпохи. Концепция о вражеском окружении советского государства автоматически переносилась на реалии XIII–XIV вв. В результате, история русско-ордынских отношений представала как непрекращающаяся двухсотлетняя борьба русского народа против «монгольской экспансии».
Третья группа объединяет работы, посвященные текстологии древнерусских источников. Большинство из них изданы в 70–80-е гг. XX в. На эти же годы приходится введение в широкий научный оборот новгородских берестяных грамот.
Как уже отмечалось, первая группа историографических источников охватывает работы, написанные и изданные в разное время. Специфическое содержание исторических работ, написанных в 20–30-е годы объяснялось не только революционным пылом авторов. Такая нервозная ангажированность публикаций извинялась еще одним обстоятельством: затяжным кризисом университетского образования и закрытием (до 1937–1939 гг.) большинства исторических факультетов [35]. Созданные в этот период работы по истории церкви отличались своей крайней тенденциозностью и предвзятостью. При всей важности и актуальности задававшихся в исследованиях исторических вопросов, их разрешение плохо вписывалось в общепринятые нормы научной дискуссии. Практически все советские издания тех лет обладали предельной придирчивостью и критичностью. Возникшая ситуация стала возможной не только по политико-идеологическим причинам, но и особенностями методологии исследований, созданных в церковной среде.
Исторические концепции, сложившихся в рамках дореволюционной церковной исторической науки, с научной точки зрения, были архаичны, несовершенны, что делало их уязвимыми для критики. Неоправданные и не подкрепленные домыслы и суждения, приписывание церкви тех возможностей, какими она не обладала, плохая критика источников, тенденциозное отношение к историографии и низведение истории до уровня агиографии служили той питательной почвой, которая позволяла вполне успешно отвергать достижения церковной исторической науки в целом.
Первым, кто обратил внимание на недостатки церкви, был М.Н. Покровский. Его критика нашла свое отражение в кратких, но многочисленных статьях, преследовавших цели идеологической и классовой борьбы [36]. Однако даже в кругу советских историков его выводы не нашли полных поддержки и признания [37].
Не менее знаковыми стали работы другого советского исследователя Н.М. Никольского. Основной его труд — «История Русской Церкви», впервые был издан в 1930 г. [38]Высказанные в нем суждения в значительной мере возникли под влиянием идей М.Н. Покровского. Правда, работа Н.М. Никольского не копировала, а развивала идеи основоположника советской исторической науки. Его концепции отличались большей проработанностью деталей, глубиной наблюдений и внимательным отношением к поиску доказательств, призванных оправдать научные выводы и мировоззренческие позиции автора. Между тем в церковной среде работу Н.М. Никольского оценивали иначе. А.В. Карташев назвал ее «грубой безбожнической "агиткой"» [39]. Но как бы ни критиковали данную работу в православной и эмигрантской среде, для советских исследователей она стала своего рода образцом, а предположения автора послужили стимулом к критическому осмыслению истории церкви в целом [40].
Различные стороны «классовой» и «антифеодальной» борьбы XIII–XIV вв. нашли свое отражение и в более поздних работах 80-х гг. Это объяснялось двумя круглыми датами, выпавшими на 80-е годы: празднование 1500-летие Киева (1982 г.) и 1000-летия крещения Руси (1988 г.). На этом фоне происходит рост исследовательского интереса к истории церковных институтов и их роли в политической жизни Древней Руси. Уже в 1985 г. переиздается работа М.Н. Никольского [41]. На эти же годы приходится появление монографий А.С. Хорошева, И.С. Борисова [42]и разнообразных сборников научных статей. Пожалуй, наиболее известный из них — «Русское православие: Вехи истории», редактором которого стал А.И. Клибанов [43]. Общим для всех них было то, что в условия ордынского господства церковь оценивалась ими как безусловная «колоборационистская» сила, нашедшая в ордынской власти поддержку, способную избавить клир от княжеской «опеки» и обеспечить высшей иерархии безбедное существование [44].
Читать дальше