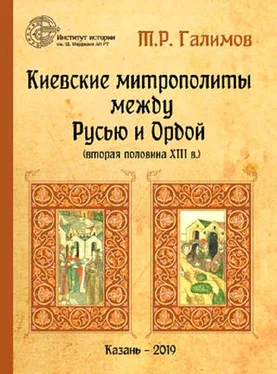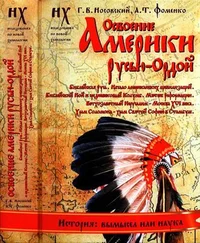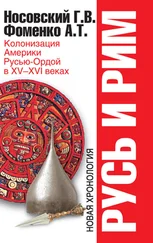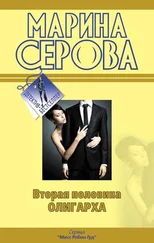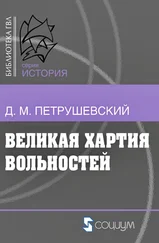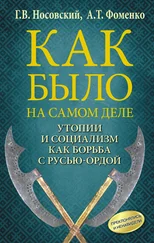Наиболее ярким представителем русских церковных ученых-эмигрантов, следует считать А.В. Карташева. Его известный труд «История Русской Церкви», был завершен в 1959 году и издан в Париже [31]. Для него история церкви была связана, прежде всего, с историей митрополитов, что в значительной мере перекликается со взглядами его предшественников, за исключением, пожалуй, Е.Е. Голубинского. А.В. Карташеву не удалось создать нечто подобное тому, что в свое время написал опальный в церковных кругах академик. В итоге монгольский период истории русской церкви был затронут автором в контексте смены митрополитов и представлен весьма однозначно и достаточно кратко.
Почти одновременно с А.В. Карташевым, в том же в 1959 году, но уже на другом континенте, в Свято-Троицком монастыре Джорданвиля (пригород Нью-Йорка, США), вышла в свет «История Русской Церкви» Н.Д. Тальберга [32]. При всей своей обширности работа имела компилятивный характер, ориентировалась на непритязательный и тенденциозный вкус местного семинарского руководства, а поэтому была лишена научной критичности. В своих суждениях в лучшем случае автор книги вторил митр. Макарию (Булгакову). К тому же работа копировала содержание дореволюционных церковных учебников, лишь расширяя контекст соответствующих параграфов и наполняя их большими морализаторскими суждениями.
Приходится признать, что в силу множества субъективных и объективных причин церковным ученым-эмигрантам не удалось изменить вектор в изучении истории Русской Церкви и России периода монгольского господства. Работы и взгляды этих ученых находились под сильным влиянием идейного наследия русской дореволюционной церковной историографии. Однако им удалось достичь главного — сохранить и поддержать среди русскоязычной эмиграции интереса к истории покинутой ими родины. На этом фоне выдающимся событием стало появление работы Г.В. Вернадского, сына советского ученого В.И. Вернадского, «Монголы и Русь». Интересы исследователя-эмигранта были связаны с областью истории русско-ордынских отношений. Г.В. Вернадский почитается в качестве одного из основателей евразийства. В результате, его взгляд на историю Руси проникнут единой целью — доказать существование широких социально-политических и культурных взаимовлияний Руси и Орды. По мнению историка, все эти взаимодействия сыграли значительную роль в укреплении позиций Московского государства и «смерти» Золотой Орды. В отличие от зарубежных церковных историков-эмигрантов, Г.В. Вернадский не гнушался использованием опыта советских ученых и в большинстве случаев перерабатывал догадки и идеи своих советских коллег, подтверждая, опровергая или совершенствуя их [33]. Важным шагом вперед стало использование Г.В. Вернадским современных ему зарубежных исследований. Остается признать, что в целом, по своему качеству, монография «Монголы и Русь», не уступает многим современным научным работам. Однако появление данного труда можно рассматривать как исключительное явление, лишь подтверждающее, общую характеристику корпуса работ по истории церкви, написанных в условиях эмиграции.
Советская историография
Формирование советской историографии, затрагивающей историю русской церкви XIII в. и Золотой Орды, в полной мере отражает всю гамму противоречий, характерных для процесса становления и развития исторической науки в СССР. Как и дореволюционная, советская историография не обладала полным идейным единством. Различия в исследовательских концепциях и подходах присутствует и в том, как формировались научные интересы ученых, и в том какие мотивы и обстоятельства влияли на возникновение и развитие этих интересов. Подобно дореволюционной, советская историческая наука было пропитана идеологическими концепциями и назидательным тоном.
В итоге, в советской историографии можно выделить три основных подхода, способствовавших возникновению в значительной мере отличных друг от друга историографических комплексов исследовательских работ. Каждый из них формировался в рамках специфических научных, философско-мировоззренческих и идейных влияний. Но практически все они были вынуждены с большей или меньшей степенью старания приспосабливать свои выводы к положениям марксистско-ленинской концепции исторического развития [34].
Первую группу исследований составляют специальные работы, посвященные истории Русской церкви. Часть из них была написана в 20–30-е годы XX в. Однако наиболее яркие исследования приходятся на последние годы советской власти. При всем их сходстве между ними присутствовали и существенные различия.
Читать дальше