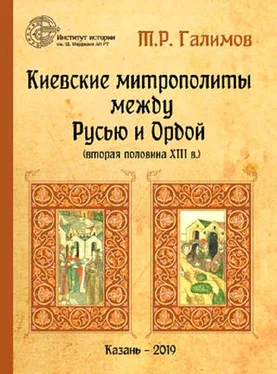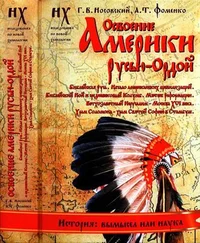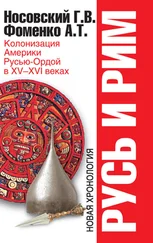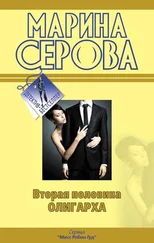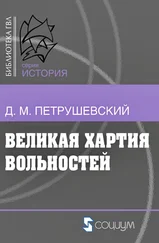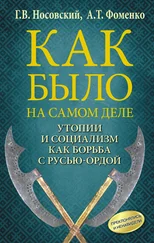. Ключевыми фигурами в сложившейся на ее просторах церковно-политической иерархии выступали носители великокняжеского титула и митрополичьего сана. При этом, если в первое столетие существования церковной организации положение митрополита было крайне неоднозначным, то к началу монголо-татарского нашествия значимость митрополита в социально-политической иерархии уже не вызывала существенных сомнений ни у современников, ни у исследователей.
В научной литературе монгольское вторжение на Русь традиционно рассматривается в качестве своего рода рубежа, в след за которым в жизни Руси наступает новый этап, принципиально отличный от предшествующих двух столетий. При том, что в последние годы эта категорическая оценка, хорошо известная из курса образовательных программ, подверглась существенному пересмотру, отказ от устоявшейся периодизации еще преждевременен [2] А.В. Назаренко доводит временные границы существования целостной Киевской Руси до княжения Александра Ярославича Невского ( Назаренко А.В . Древняя Русь // ПЭ. Т. 16. С. 248; Назаренко А.В . Была ли столица в Древней Руси? Некоторые сравнительно-исторические и терминологические наблюдения // Назаренко А.В . Древняя Русь и славяне. М., 2009. С. 105–107).
. Тем не менее, именно в первые десятилетия власти Орды над Русью положение церкви и ее иерарха существенно изменилась. Наглядно эти различия прослеживаются в деятельности киевских митрополитов, в том числе в месте русского первосвятителя в системе русско-ордынских связей.
Период с конца 30-х по 80-е гг. XIII в. отмечен самыми драматическими процессами: русско-монгольской войной и последовавшими за нею изменениями внутреннего административно-политического устройства и внешнеполитического положения Руси. Монгольское нашествие существенно изменило направление вектора развития древнерусского государства. Эти перемены затронули и Русскую церковь, иерархия которой была тесно связана с жизнью Византии и от части Западной Европы. После падения Константинополя и дробления церковно-политических элит, формировавшихся вокруг императорского трона и патриаршей кафедры Царьграда, оказались нарушенными устоявшиеся и казавшиеся незыблемыми принципы церковного и политического управления. Все это в полной мере сказалось на жизни Киевской митрополии. Правда, на фоне бедствий, постигших Византию, положение дел на Руси до конца 30-х годов XIII в. виделось более устойчивым и даже благоприятным. Однако с монгольским вторжением и последовавшим за ним противостоянием и учреждением ордынского господства, произошло еще большее осложнение внутридинастических отношений на Руси. В итоге, на рубеже XIV–XV вв. это привело к фактическому разделу южнорусских земель между Золотой Ордой, Литвой, Польшей и Венгрией. Церковная жизнь всегда была тесно связана с властными элитами и обусловлена политическими процессами. В результате, все перечисленное сказалось на положении дел в русской церкви, что обнаруживается уже в первые десятилетия монгольского господства на Руси.
Во-первых, видоизменились связи церкви с княжеской властью и патриархом Византии. Местные церковные власти в лице обладателей первосвятительской кафедры Киева стали менее зависеть от «греков». Во-вторых, изменилось место церкви в политической и социальной структуре общества. В целом можно уверенно утверждать, что в данный период произошло существенное усиление роли церковных иерархов в жизни древнерусских политических элит. Если прежде, княжеская власть и городская верхушка стремились поставить церковь под свой контроль и максимально вовлечь ее в круг социально-политических забот княжеских центров, то в XIII–XIV вв. положение дел уже видится иным. Статус и положение церкви, особенно ее первосвятителей в древнерусском обществе возросли. Причины произошедшего следует искать не столько в религиозно-политических концепциях, сколько в обстоятельствах времени, в интересах Золотой Орды, а также в личных амбициях церковных первоиерархов.
В связи с этим предпринята попытка анализа деятельности, а также каноническо-правовых, административных и иных возможностей института киевских митрополитов до монгольского нашествия и во второй половине XIII в., а также установления места киевского первоиерарха в сложных церковно- и русско-ордынских отношениях обозначенного периода. Разрешение этих проблем позволяет не только уточнить многообразные стороны деятельности русской первосвятительской кафедры в первой трети — конце XIII вв., но и выявить истоки того высокого социально-политического статуса, который усваивала себе церковная иерархия в последующие столетия. При этом процессы, позволившие достигнуть церкви определенных результатов, хоть и показательны, но нуждаются в некотором пояснении.
Читать дальше