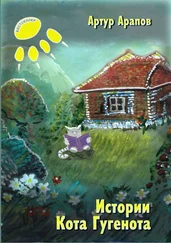В дальнейшем, когда внутренние разногласия в гуситском лагере заметно усилились, идеологи бюргерской оппозиции еще более настойчиво отстаивали эту позицию. Будучи представителями имущих и отчасти привилегированных слоев населения, они сами нуждались в такой идеологической силе, которая освящала бы по-прежнему господство частной собственности и наличие имущественного и социального неравенства.
В последующие годы критика католической церкви со стороны умеренных гуситов и планы ее преобразования становятся все более умеренными. В соглашении между Старой и Новой Прагой от 1427 г. [921] «Archiv ceský», dil 3, c. 261–262.
указывалось, что священники должны быть послушны своему избранному главе, что церковные обычаи не должны нарушаться, кроме как по общему решению всех священников. Ян Пршибрам писал в 1429 г. с крайним возмущением, что у таборитов «священников их миряне посвящали», что они «сами выбирали себе епископа» [922] J. Pribram , zivot…, c. 281.
. Выступление таборитов против церковной иерархии Пршибрам называет теперь опаснейшей ересью. Среди важнейших обвинений, выдвинутых против таборитов пражскими магистрами в те годы, было следующее: табориты «не признают разницы между мирянином и священником», «многие миряне изображают их священников» [923] Joannis de Lukavecz et Nicolai de Pelhrzimov, Chronicon Taboritarum, «FRA», I abt.f 6 bd.f 2 t., c. 567.
, т. е. исполняют обязанности священников. В другом трактате 1430 г. Я. Пршибрам критиковал таборитов за их утверждение [924] Historae Hussitarum libri duodecim Joannem Cochlaevui, artivum ac sacrae theologiae magistrum, canonicum Vratislaviensem…», Moguntia, 1549, c. 5071.
, что между священником и епископом не должно быть никакой разницы. Наоборот, писал он, только лица посвященные, т. е. священники, официально признанные церковью, могут отпускать грехи, причащать, но не выходцы из других сословий. Пршибрам стремился доказать, что и в раннехристианской церкви была своя иерархия. Признавая еще, что церковь не должна иметь светской власти, Пршибрам уже оговаривается, что епископы должны сохранить свою духовную юрисдикцию. Это было шагом к полному признанию светских прав церкви. Я. Пршибрам подтверждал правильность учения церкви о так называемых «двух мечах»: один меч — это император, светская власть вообще, другой — это папа, олицетворяющий всю католическую церковь. Следовательно, признавалась не только необходимость церковной иерархии, но и власть папы как главы всей католической церкви. Переговоры вокруг Пражских компактатов с Базельским собором, признание гарантии со стороны собора в их выполнении говорят о том, что и церковные соборы в общем признавались теперь за высшую инстанцию в делах веры.
Правые гуситы уже в 1419–1420 гг. обвиняли таборитов в разрушении церквей и монастырей [925] Vavrinec z Brezové , Указ. соч., стр. 86–87.
, хотя первое время принимали активное участие в иконоборческих выступлениях. На диспуте 10 декабря 1420 г. они критиковали таборитов за то, что те сами выбирали себе священников, что они служили церковную службу под открытым небом, в домах мирян, а не в специальных помещениях, церквах [926] J. Pribram , zivot…, Указ. соч., стр. 276–295.
. В октябре 1424 г. магистры на своем собрании в Праге заявили, что сжигать церкви или часовни, разорять их без неизбежной необходимости — это великое святотатство [927] «Archiv ceský», dil 3, с. 264.
. В 1427 г. в соглашении между Старой и Новой Прагой также отмечалось, что недопустимо разрушить церкви и монастыри. Пршибрам обвинял таборитов в том, что они «из церквей сделали хлевы» [928] J. Pribram , zivot…, c. 288.
.
Новая, преобразованная церковь должна была стать и церковью национальной. Требование свободной проповеди христианского учения включало, с точки зрения гуситов, право на проповедь на родном чешском языке. В тексте первой из пражских статей прямо указывалось, что никому не должно быть запрещено употреблять свой язык в церкви божьей [929] Vavrinec z Вrezové , Указ. соч., стр. 79.
. Этот тезис неоднократно подтверждался затем в гуситских манифестах.
В то время, как известно, употребление национального языка в католической церкви строжайше запрещалось. Все богослужение производилось только на латинском языке, и по-латыни писались богословские произведения. Борьба католического духовенства против применения национального языка в богослужении, в религиозной литературе выражала стремление высшего духовенства удержать за собою монопольное право на толкование христианского учения, а вместе с тем и положение привилегированного сословия, поскольку масса населения не знала латыни.
Читать дальше
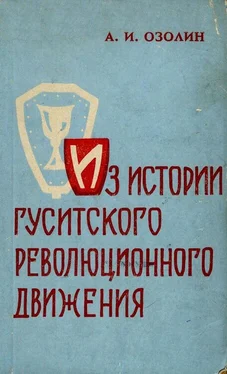


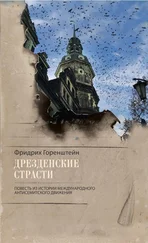
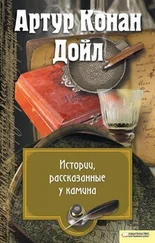
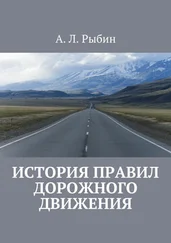
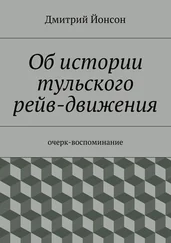

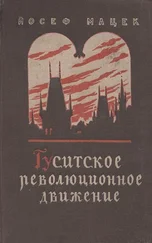
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти [компиляция]](/books/422421/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Александра Лисина - Артур Рэйш. Истории о маге смерти (СИ) [компиляция]](/books/422507/aleksandra-lisina-artur-rejsh-istorii-o-mage-smert-thumb.webp)
![Артур Лорентс - История западной окраины [=Вестсайдская история]](/books/422897/artur-lorents-istoriya-zapadnoj-okrainy-vestsajds-thumb.webp)