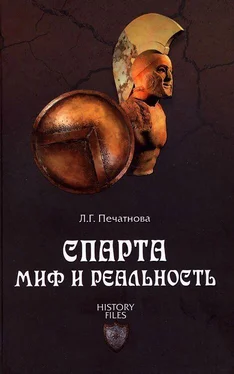Античные историки и философы, как правило, очень высоко оценивали общества традиционно консервативные, обеспечивающие своим гражданам длительный гражданский мир. Так, по словам Аристотеля, «целью того государственного строя, который рассчитывает на долговечное существование, должно служить то, чтобы все части, составляющие государство, находили желательным сохранение существующих порядков» (Pol. II. 6. 15. 1270 b 20–23). Теоретики полиса полагали, что особую устойчивость и прочность государственной системе управления может придать смешение в ней нескольких «чистых» форм — демократии, аристократии и царской власти. Аристотель причислял Спарту к числу тех немногих государств, где нашло себе практическое воплощение учение о смешанной форме правления (Pol. II. 3. 10. 1265 b).
В Греции более или менее близкого аналога политической системе Спарты не существовало, за исключением, может быть, дорийских общин Крита. Но уже Полибий, первый греческий историк, хорошо знакомый с политической структурой римского общества, обнаружил близкое сходство между Спартой и Римом. Применив для характеристики римской конституции учение о смешанной форме правления, Полибий рассматривал Спарту и Рим как примеры смешанного государственного устройства, где политическое равновесие обеспечивалось «счастливым» сочетанием трех простых форм: в Спарте монархический элемент представляли цари, аристократический — герусия и демократический — эфорат; в Риме — соответственно консулы, сенат и комиции вместе с народными трибунами (Polyb. VI. 10–18, особенно 10 и 12). На типологическую близость спартанских и римских политических учреждений указывал также Цицерон [124] Подобные сравнения довольно часто встречаются в научной литературе. Эта тема нашла свое отражение уже у К.О. Мюллера. Крупнейший социолог современности, Макс Вебер также усматривал внутреннее родство между эфорами и народными трибунами. И тех и других, по его словам, граждане изначально поставили в качестве защиты, в Спарте — от царей, в Риме — от патрициев. И не так уж важно, что эфоры постепенно в большей степени, чем народные трибуны, превратились в чиновников, обслуживающих спартанскую олигархию. Обзор научной литературы, где проводится параллель между эфорами и народными трибунами, см.: Thommen L. Volkstribunat und Ephorat. Uberlegungen zum "Aufseheramt" in Rom und Sparta // Gdttinger Forum fur Altcrtumswissenschaft. 6. 2003. S. 19 f.
. В частности, он одним из первых обратил внимание на сходство спартанского эфората и римского народного трибуната ( tribuni plebis ). У Цицерона были серьезные основания для подобного рода аналогий. Обе магистратуры во многом сходны между собой. Это сходство можно проследить по нескольким линиям.
Прежде всего, учреждение обеих должностей — это классические примеры конституционного решения сложнейших социально-политических проблем. Как не раз уже отмечалось в научной литературе [125] См. например: Jones A.H.M. Sparta. Oxford, 1967. P. 28 f.; Amheim M.T.W. Aristocracy in Greek Society. P. 93.
, спартанцы в отношении своих царей избрали необычный для греков путь. Они не сделали какой-либо попытки уничтожить царскую власть насильственным, т. е. революционным, путем [126] В отличие от Спарты, царская власть в Риме была уничтожена, но на место царей пришли два консула, которые обладали поистине царской властью. Подобно спартанским царям, они пользовались неограниченным военным авторитетом, а у себя дома являлись лидерами сената, аристократического совета старейшин.
. Вместо этого для защиты своих прав они стали ежегодно избирать пять эфоров. Во всех отношениях эфоры выглядели как противовес царям. Если для греческих государств периода архаики подобный конституционный способ разрешения социальных конфликтов являлся не частым явлением, то он имел некоторое сходство с борьбой сословий в раннем Риме. Как и в Спарте, победа плебеев в Риме не привела к конституционному изменению формы правления, а только к участию плебеев во властных структурах.
Таким образом, обе магистратуры возникли как результат компромисса между народными массами и правящей элитой. И для Рима, и для Спарты этот компромисс оказался спасительным. Он дал возможность обеим общинам длительное время существовать без гражданских войн и тирании. Как полагал Цицерон, политический компромисс — единственный гарант длительного и спокойного существования общества и государства. Кстати, этот свой постулат Цицерон иллюстрирует примером именно из спартанской истории: «Если в государстве нет равномерного распределения прав, обязанностей и полномочий с тем, чтобы достаточно власти было у магистратов, достаточно влияния у совета первенствующих людей и достаточно свободы у народа, то этот государственный строй не может сохраниться неизменным… Ведь даже порядок, установленный Ликургом, не удержал греков в узде; ибо и в Спарте, в царствование Феопомпа, было назначено пятеро человек, которых греки называют эфорами…» (De resp. II. 33. 57–58. Здесь и ниже пер. В.О. Горенштейна).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу