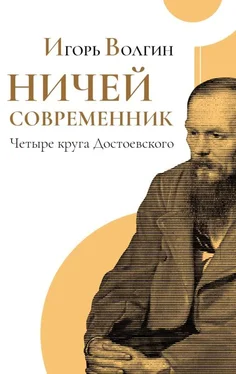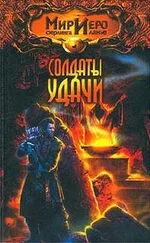Когда Вы будете в Петербурге? Ещё раз благодарю Вас за «Дневник», не только за присылку, но и за то, что выпустили его. Моя новая квартира в Москве:
Спиридоновка, у Никитских ворот, Дом Розанова.
Ваш Ив<���ан> Аксаков.
Я не забыл своего обещания насчет Гоголя автографа [1213]. Как переселюсь окончательно в Москву, пришлю.
Р. S. Напрасно Вы сказали, будто я назвал или выразился, что меня называют предводителем славянофилов. Я сказал: представителем [1214].
№ 4
23 Ав<���густа> 1880.
Я поступил бы неискренно относительно Вас, многоуважаемый, дорогой Фёдор Михайлович, если б не сообщил Вам, в дополнение к последнему моему письму, не то что замечания, а так сказать, некоторого ощущения или нравственного [осадка], оставленного в моей душе, на самом её дне – некоторыми местами Вашего «Дневника». Речь веду не о самом содержании, о котором уже писал к Вам, и не собственно о внешней форме или построении Ваших статей, а вернее о тоне. – Молва гласит, что Вы человек болезненно раздражительного самолюбия, но я ей не верю, и Вы позволите мне высказаться откровенно. Знаете что? Мы с вами стоим под знаменем Христа и хотим непостыдно, гласно исповедовать его имя. Но это имя – святыня; но оно налагает на исповедовающего его перед другими обязанность сообразоваться, приводить в некоторое соответствие с этой святыней – и своё собственное настроение и свое слово. Это вовсе не значит, что имя Христа должно произноситься лишь благочестиво-слащавым голосом, с глазами, опущенными долу. Но было бы странно, даже более чем странно, [и] уже очень дисгармонично, если б кто, например, стал выражаться или убеждать другого таким образом: «Да ты, сукин сын, ракалия ты эдакая, поверь во Христа и уразумей его кротость». Или: «У меня в душе Христос, чёрт тебя возьми!» Я нарочно привёл такой резкий пример, пример нелепый, чтобы яснее выразить Вам мою общую мысль. В Ваших статьях, разумеется, нет ничего подобного, но приёмы полемические, некоторые, показались мне уж очень грубы. Я, впрочем, сначала как-то мало обратил на них внимания, а потому и нe упомянул о них, когда писал к Вам, но потом они сами как-то всплыли и стали торчком в моей памяти! Это заставило меня перечесть «Дневник». Действительно, есть что-то негармонирующее между исповедованием, частым поминанием Христа и умышленно-оскорбительною для Вашего противника речью (по крайней мере в некоторых её местах). Я вовсе не думаю винить Вас, статья Градовского способна хоть кого взбесить самодовольством противной дешёвой мудрости и принаряженных общих мест. Я только хочу указать на ту сторону дела, которую следует принять в соображение и мне, и Вам.
Вам в особенности. Потому что Вам, более чем кому-либо, в силу Вашего таланта, Ваших прошлых и всем известных испытаний и искренности Ваших убеждений, [предлежит] возможность благотворного действия на общество, на молодое поколение в особенности. Не люблю я этого пошлого слова, но чтоб не искать другого, более подходящего, скажу, что Вы, мне кажется, призваны популяризировать в общественном сознании нравственную истину христианства, переводя её из храма – на улицу, в жизнь, – следя и раскрывая её в нашей ежедневности, во всех крупных и мелких случаях, вертящихся, как пыль, около нас. Конечно, тут и речь и приёмы иные, нежели в проповеди, но вот тут-то и задача, тут-то и предстоит Вам надобность найти границу, за которую дольше идти уже нельзя, за которою начинается уже фельетон… Очень бы мне хотелось, чтобы Вы приняли мои слова благодушно. Важность Вашего дела этого требует.
Вам покажется, может быть, забавно, однако ж молчать не стану; есть место, по-видимому пустое, о котором, пожалуй, и толковать бы не стоило, но которое меня покоробило. Это то место, где вы, обличая Ваших противников в фальшивом целомудрии (по поводу их глупых нападок на русскую бабу за её будто бы нескромность), приводите французскую шансонетку и рисуете картинку каскадной певицы. Не то не понравилось мне, что Вы их обличаете и указываете им на их же падкость к пакостным каскадным представлениям, а как Вы самую картину нарисовали. Вы нарисовали её как художник-реалист, а художник-реалист всегда более или менее склонен, невольно склонен смаковать изображаемое, услаждаться верностью, точностью, самым процессом изображения, причём уже несколько безразлично, в смысле нравственном относится к содержанию. Но в этом и опасность, своего рода подводный камень. Вы и воспроизвели каскадную певицу, но так реально, так живо и притом, что хуже всего, – с шуточкой, – что превосходную, нравственно-поучительную Вашу статью нельзя дать в руки молодой девушке. Ей можно смело дать в руки всю библию, не говоря уж об Евангелии, где о блудницах и блуде трактуется часто: это её не смутит и не загрязнит её воображения; я не затруднюсь допустить её к серьёзному научному изучению анатомии и физиологии; она может свободно прочесть «Невский проспект» Гоголя, где описывается посещение Пискарёвым публичного дома – и не запачкаться нимало. Но Ваше, любезный мой Фёдор Михайлович, «подёргивание задком» – это уже не хорошо, это уже излишняя, пачкающая, скверная подробность. И знаете что не хорошо? Вы это тотчас поймете. Не хорошо это уменьшительное ( задок, юбочки ). Вы согласитесь, что сказать, например, слово зад пристойнее, трезвее, чем то же слово в уменьшительном. Ибо в форме уменьшительной звучит ласка или не лишённое сочувствия, смакования, шутливость… Этот ласковый задок – почти рядом с именем Христа – производит неприятное впечатление, способен ослабить желаемое, благотворное действие статьи, тем более, что в такой подробности и в таком выражении неизбежной нужды не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу