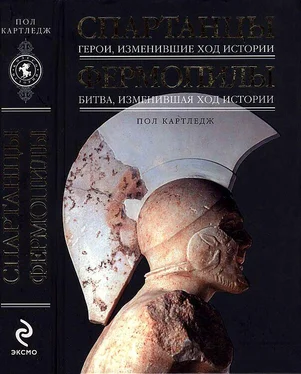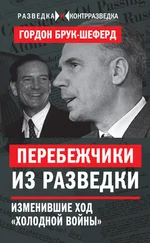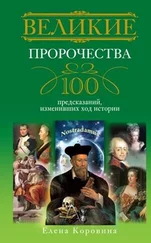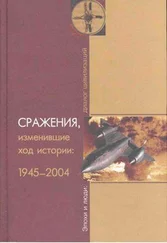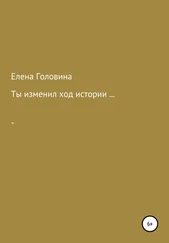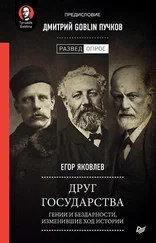Несмотря на различные осложнения, отягощавшие их отношения со Спартой несколько лет назад, они вполне разумно поступили, послав за спартанской помощью выдающегося бегуна на длинные дистанции Филиппида (или Фидиппида). Он пробежал около 250 километров из Афин в Спарту значительно быстрее, чем за сорок восемь часов [24] В современном «Спартатлоне», ультрамарафонском беге, вдохновленном его примером, засвидетельствовано рекордное время, сокращенное до немногим более двадцати часов.
. Спарта в то время была самым могущественным греческим государством в смысле обычной наземной войны. Им управлял царь Клеомен I, известный своей свирепой враждебностью к Эгине. Он так же, подобно Афинам, обошелся с огромным презрением с посланниками Дария, на самом деле даже несколько безбожно, убив их. Теперь спартанцы прореагировали на просьбу афинян о военной помощи позитивно, за исключением того, что более ранние религиозные обязательства (как они утверждали) не давали им возможность предоставить эту помощь немедленно. На этот раз спартанские силы прибыли в Марафон на следующий день после великого сражения, предоставив афинянам и их единственному союзнику, соседним Платеям, самим противостоять трудностям.
Никогда не станет до конца ясно, почему именно персы проиграли Марафонскую битву, и при том столь убедительно. Вероятно, это в значительной мере определила та роль — или, скорее, ее отсутствие — которую сыграла персидская конница. При ее отсутствии битва представляла собой поединок между тяжеловооруженными греками, вдохновленными тактическим гением полководца-аристократа Милтиада, которые сражались за (более, чем в одном смысле) свою родную землю, и относительно более легко вооруженными, разнородными и не побуждаемыми столь значительным стимулом войсками, находившимися в распоряжении Артаферна и Датиса. Греческие силы легко одержали верх и понесли относительно небольшие потери: согласно Геродоту, погибло всего 192 грека в противовес шести с половиной тысячам со стороны персов. Имелись некоторые опасения касательно возможной пятой колонны в Афинах, готовой заключить сделку с персами, но они не оправдались.
Дарий умер в 486 году, предположительно, не вполне удовлетворенный греческими делами, несмотря на свои прочие многочисленные ошеломительные достижения. Следствием его неудачи в Марафоне было то, что в 485 году власть Персидской империи не распространялась на собственно материковую Грецию. К тому времени его сын и преемник Ксеркс взошел на престол в качестве Великого царя, подавил восстания в Вавилоне и Египте и размышлял о том, чем он отметит свое царствование и империю.
Геродот в начале седьмой книги своей Истории излагает предполагаемую дискуссию между Ксерксом и ближайшими советниками, особенно дядей по имени Артабан. Он также изображает целый набор сверхъестественных сил, которые предположительно тянут Ксеркса то в одном направлении, то в другом. Несмотря на драматизацию Геродота у Ксеркса почти не возникает сомнений в том, что завоевание материковой Греции является незавершенным семейным мероприятием и первоочередной задачей империи.
В 484 году или около того материковые греки к югу от Македонии впервые почувствовали враждебные намерения и приготовления Ксеркса. В принципе, они вполне могли взвесить истинные греческие качества, несовместимые с «рабством» — подчинением «варварскому», негреческому господству Персии. Именно так материковые греки, в 480 году решившие оказать сопротивление персидскому вторжению под водительством Спарты, в конце концов пришли к решению идеологически обосновать это сопротивление. Однако такие верные греки были безусловно слишком малочисленны и, за известными исключениями, слабы духом: они нуждались в мускульной силе и стали, что могла дать только Спарта. Одно из объяснений этому заключается в природе Эллады и эллинизма.
Движение «колонизации» седьмого и шестого веков привело к тому, что греки постоянно селились в основном вокруг средиземноморского бассейна и Черного моря на северо-востоке. В результате греческий мир, или Эллада, если использовать собственный термин древних греков, представлял собой единство в той же мере, какое «арабский мир» являет сегодня или «христианский мир» являл в Средневековье. В политическом отношении это отнюдь не было единством или даже некой целостностью. Перикл Афинский со свойственным ему даром запоминающихся высказываний сказал о своих беотийских соседях, что они были настолько разобщены и взаимно враждебны, что напоминали ему высокие деревья под сильным ветром: их вершины так ударялись друг о друга, что становились друг другу палачами. И это несмотря на то, что беотийцы были не только греками, но и принадлежали к одной беотийской этнолингвистической группе с активно используемым общим религиозным центром. Еще одна иллюстрация: Геродот в контексте 480 года после Фермопил и в преддверии Саламинского сражения писал, что, по его мнению, жители Фокиды оказались единственными среди греков севера Аттики, не перешедшими на сторону Персии, «не по какой иной причине, а только из ненависти к фессалийцам. Будь фессалийцы на стороне эллинов, то фокийцы… поддержали бы персов» [25] Геродот . 8.30.
.
Читать дальше