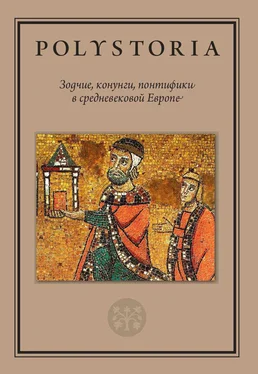Михаил Дмитриев
Иудаизм и евреи в зеркале текстов восточноевропейских православных и католических текстов XV–XVI вв
doi:10.17323/978-5-7598-2311-7_166-193
Предмет настоящей статьи — взгляд на иудаизм и иудеев (евреев), выраженный в ряде релевантных текстов православной культуры Востока Европы (Московская Русь, территория современных Украины, Белоруссии) в конце XV–XVI вв. по сравнению с тем, каков был взгляд на иудеев в мейнстриме католической (преимущественно польской) культуры того же времени.
В центре нашего внимания находится проблема конфессионально детерминированной типологии христианского антисемитизма и антииудаизма. Эта проблема состоит, в частности, в том, что в зрелое и позднее Средневековье (начиная с XII в.) разносторонне и глубоко изученный западнохристианский опыт взаимодействия с иудаизмом и отношения к евреям по ряду параметров существенно отличался от того, что известно к настоящему времени о взгляде на иудаизм и отношении к евреям в византийско-православных культурах вплоть до XVII в. Причины этой асимметрии до сих пор не поняты, и есть основания предполагать, что они коренятся в конфессиональной специфике восточнохристианских традиций. Первые результаты работ, предпринятых еще в 1997–2004 гг. в рамках международного исследовательского проекта по сравнительной истории средневекового христианского антииудаизма и антисемитизма [463], показали, что в православной культуре Русского государства и украинско-белорусских земель в XIV–XVI столетиях видны черты, заметно отличающие ее в отношении к евреям и иудаизму от западнохристианской культуры, в том числе и от польской. Складывается впечатление, что в самой манере мыслить об иноверце («неверном», еретике, «нехристе», и в том числе об иудее/еврее), в ментальной и языковой практике, иными словами — в дискурсивных структурах двух христианских традиций вплоть до XVII в. сохранялись различия, которые делали антииудейские дискурсы, доминировавшие в православной культуре, и более терпимыми (или менее нетерпимыми), и, самое главное, по существу иными, чем доминировавший дискурс католической и протестантской культуры Средних веков и раннего Нового времени. Эта гипотеза, получая все больше подтверждений, должна быть проверена в дальнейших исследованиях. Один шаг в этом направлении предпринят в настоящей работе, отражающей некоторые новые наблюдения над рядом характерных источников и предпринимающей попытку поставить получаемые результаты в контекст уже накопленных знаний об отношении христианских книжников и проповедников к иудаизму (на Востоке и Западе Европы) в Средние века и раннее Новое время. Поставленные вопросы составляют часть большой проблематики accommodating religious and cultural differences , т. е. проблематики модальностей религиозной терпимости и нетерпимости и религиозно-культурного плюрализма в латинских и православных культурах Европы. С ней сталкиваются практически все исследователи, которые изучают отношение к иноверцам в христианских и нехристианских культурах. В этом отношении настоящая работа продолжает проект Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, посвященный моделям религиозного плюрализма на Востоке и Западе Европы в Средние века [464].
* * *
В нашем распоряжении есть много памятников, которые и выражали, и формировали отношение православного населения Восточной Европы к иудаизму. В частности, мы располагаем полемическими и проповедническими антииудейскими сочинениями, неоригинальными и оригинальными, которые и использовались в проведенном исследовании. В сочетании с другими текстами (историческими сочинениями — в тех частях, которые касаются евреев и иудаизма; летописными упоминаниями; богослужебными и церковно-правовыми текстами; памятниками церковно-учительной литературы; экзегетическими сочинениями; житиями, в которых речь заходит и об евреях и иудаизме; паломнической литературой [465]) эти сочинения участвовали в конструировании и поддержании того или иного образа иудея/еврея в православных и католических культурах.
Многочисленным антисемитским и антииудейским текстам польской культуры XVI–XVIII вв. посвящена довольно значительная литература [466], но систематическое изучение этих памятников все еще не предпринято. Важнейшая сторона дела — проникновение характерной мифологии в фольклорную культуру [467].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу