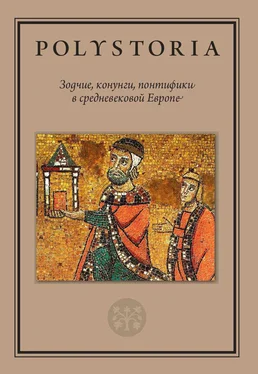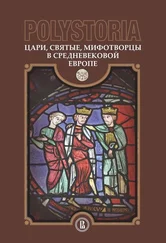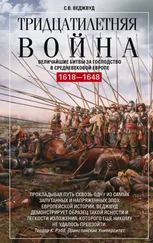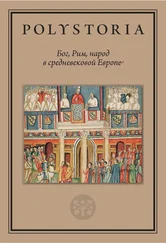Нечто подобное мы можем видеть и в других памятниках 1220–1230-х годов. Таков один из портретов Фридриха II, безусловно высококачественный, но являющий лицо скорее страдающего от бремени власти человека, чем всесильного императора (рис. 10). Схожие черты видны в знаменитом «Бамбергском всаднике» того же времени, но здесь все линии мягче, при том что королевское достоинство всадника не скомпрометировано ни этой мягкостью, ни органичной расслабленностью позы. Реймсский «Филипп-Август» на этом фоне граничит с гротеском и карикатурой. Мы начинали с того, что для современников государь значит «образ», и здесь перед нами образы государей, не важно, реальных или идеальных, которые так же подчиняются логике готической физиогномики, как и демонические маски. Их лица выражают, говоря языком психологии и медицины того времени, passiones и accidentia их душ, т. е. буквально то, что души претерпевают. Подобно тому, как поэт предлагает за внешним описанием тела увидеть внутренний мир, скульптор берет на себя труд иконографически диверсифицировать порученную ему галерею королей, заказ безусловно огромного идеологического значения для французской короны. Подражая им, скульпторы Фридриха II также создавали своего рода «галерею», представленную, однако, светскими памятниками, в которой государь являлся то в блеске вечной юности, то исполненным патетического страдания.
Важно то, что шартрские и реймсские мастера смогли передать свой опыт в Англию, Германию и Италию, где новый художественный язык и новый образ человека нашли отклик как в придворном искусстве, так и в соборах. Наумбург, с которого мы начали, — пример сочетания светских и церковных вкусов. Описывая наумбургские статуи, Зауэрлендер старался отмежеваться от интерпретаций, основанных на психосоматическом и характерологическом вчувствовании, Einfühlung, практиковавшемся во времена Воррингера и Фёге. Ницшеански звучащее Reichtum an Psyche для него не аргумент и не объяснение. Он ищет параллели в идеалах красоты, жестах и мимике «Пришельца» и «Романа о Розе», чтобы понять загадочный взгляд Уты, но осознаёт, что даже осторожно подобранные для таких сопоставлений тексты несут с собой новые герменевтические сложности: только очень скрупулезный контроль может уверить нас в том, что современный интерпретатор не навязывает одно и то же значение древним формулам описания, Beschreibungsformeln, и способам материального изображения, Darstellungsgewohnheiten, т. е., попросту говоря, текстам и образам. Для него физиогномические характеристики статуи — манера придерживать плащ, рука, сжатая на рукоятке меча, нахмуренный лоб, борода, распахнутые или сощуренные глаза — суть результат одновременно «физиогномической кодификации», physiognomische Kodifizierung, и придворной, куртуазной стилизации, Ergebnis höfischer Stilisierung. То есть физиогномика непосредственно связана и со стилем, die Stilphysiognomie, эта последняя — с социальной функцией, поскольку призвана подчеркнуть статус заказчика [456].
В 1990-е годы Зауэрлендер обратил внимание на еще одну очевидную параллель между готическим натурализмом и возрождением античной физиогномики. Желание «показывать вещи такими, какие они есть», которое правит Фридрихом II в трактате «Об искусстве соколиной охоты», для Зауэрлендера — признак того движения, которое объединяло интеллектуалов и художников [457]. Тем более неслучайно, что при дворе того же императора, в Южной Италии, Михаил Скот пишет первый на Западе специальный трактат по физиогномике, и создается придворное искусство, питающееся как античным и византийским наследием, так и современным готическим опытом Франции и Германии. Не вдаваясь здесь в подробности, о которых я не раз писал [458], отмечу, во-первых, что южно-итальянское искусство второй четверти XIII в., непосредственно связанное с кругом Фридриха II, действительно представляет собой вариант общеевропейского движения, начавшегося в Шартре, во-вторых, что физиогномика Михаила Скота, задуманная этим астрологом-«кадровиком» как тайное знание лично для государя, на самом деле сочетает в себе куртуазность с аристотелевским эмпиризмом. Он пишет, подражая Аристотелю, которому приписывалась «Тайная тайных», только что переведенная и содержащая также физиогномический раздел, а своего мецената стилизует тем самым под Александра, получателя знаменитого зерцала. Скот знает, что человек во многом похож на животное, причем знает об этом из авторитетного источника — зоологического свода Аристотеля, «De animalibus», им же переведенного [459]. В его «Физиогномике» — множество параллелей между животным и человеком, христианский homo celestis, «человек небесный», превращается под его пером в homo organicus, не теряя при этом ни своего царственного статуса в природе, ни исключительных отношений с божеством. Напротив, уверенность в том, что каждая душа творится Богом для конкретного индивида, прибавляет ему уверенности в том, что и внешние признаки тела, в котором пребывает эта душа, тоже должны быть уникальными. Для физиогномиста, и Михаил Скот здесь просто представитель распространенных взглядов, сложившихся в XII–XIII вв., тело не сражается с душой, а составляет с ней неразрывное единство, точно такое же, какое мы уже видели у Гильома из Сен-Тьерри [460]. Рецепция же аристотелевской зоологии и физики, как показывают многочисленные комментарии XIII в., тоже привела скорее к укреплению позиций христианской доктрины о человеке как «самом благородном животном» [461].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу