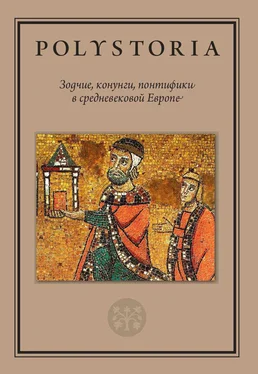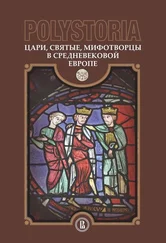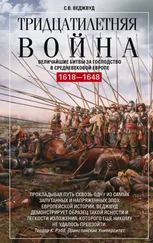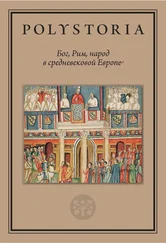Вполне резонно будет заметить, что здесь приводятся примеры из высокой поэзии, к тому же склонной к философствованию. Можем ли мы на основании таких текстов делать далеко идущие выводы о смене ценностных ориентаций Запада, как мне кажется, именно в XII столетии вновь открывшего для себя тело? В какой-то степени да, поскольку речь идет о текстах, оказавших большое влияние на современников. Иногда то, что шедевр выразил с особой смелостью, не слишком заметный литературный памятник может подтвердить:
Небо с землей, словно муж с женою в браке законном,
Тленное все она им полная миру приносит.
Оплодотворяют ее жар живоносный с росою,
Женщина в лоно свое так же семя мужское приемлет.
Вот и родительница Природа полам поручила
Двум всякой плоти дарить в этом мире рожденье.
Микромиром не зря человека давно нарекают,
Сам в себе космос, к тому ж и вселенной он образ являет.
Предкам своим подражать потомкам дается по праву:
Кости подобны камням, земле — плоть, а вены — потокам [435].
В этом фрагменте из дидактической поэмы «Философия мира», написанной в середине XII в. неким Милоном (тезкой литературного персонажа), возможно, не без влияния Шартрской школы, хотя и без ее блеска, мы находим вполне традиционное сопоставление микро- и макрокосмоса. Но столь же очевидно, что для поэта связь земли и неба представляет собой семейные узы, соединяющие полы. Земля становится матерью, оплодотворяемая теплом и влагой неба. Как многие христианские мыслители, бравшиеся за христианизацию античных космологических мифов, Милон умело модулирует свою речь с помощью ни к чему не обязывающих ut, quasi и прочих «условностей». Но — и здесь Милон приближается к великим поэтам и философам своего времени — он соглашается на то, что космос, мировое яйцо, зиждется на тех же сексуальных отношениях, на желании и даже обязанности произвести потомство, что и отношения между людьми на земле. В «Космографии» поэтическое описание новорожденного мира, включающее сотни названий растений, животных, рек, гор и проч., заканчивается величественной похвалой этому миру, вложенной в уста самого Разума: «Огонь, эфирный, общительный и склонный к союзу, соединившись с супружеским лоном земли, жаром своим порождает вещи, препоручая вскармливание их низшим стихиям [436]. Когда с небесного свода низошел жизненный дух, земля принялась кормить тела и не оставляет своего дела, давая необходимое природе для роста пропитание» [437].
Никто и прежде не отрицал законности и естественности размножения, даже осуждая с точки зрения морали естественное удовольствие, но именно новые для того времени научные и философские тексты, прежде всего «Асклепий» [438], «Тимей» и тексты греко-арабской медицины, переводившиеся с арабского в Салерно и Толедо, ввели трюизм в литературную топику и в философскую спекуляцию, способствуя тем самым и общему пересмотру представлений о человеке. Открытие и, в какой-то степени, реабилитация человеческого тела в переводах монтекассинского монаха Константина Африканского на рубеже XI–XII вв. стали одной из основ для антропологии шартрцев. Это не удивляет у Теодориха Шартрского, включающего венец творения в космогоническую цепь [439], у Гильома Коншского, сознательного полемиста и новатора в науке о природе, впрочем, знакомого с новейшими для его времени медицинскими текстами не слишком основательно [440]. Более симптоматично то, что физиология человеческого тела служит таким же аргументом в антропологии его противника — Гильома из Сен-Тьерри, отказавшегося от статуса бенедиктинского аббата ради цистерцианской аскезы, первого биографа Бернарда Клервоского, богослова, склонного скорее к мистике, чем к эмпиризму. Его трактат «О природе души и тела» написан в 1140-е годы на основе того же галеновского «Пантехни» («Pantegni»), что и «Философия» и «Драхматикон» Гильома Коншского. Как и шартрский «физик», цистерцианский богослов описывает человеческое тело с неподдельным интересом и восхваляет его гармонию, видимую в каждом члене [441]. Однако, если «физик» в своей антропологии не нашел места для души, видимо, понимая, что душа вне рамок предлагаемой им формы знания, то цель оперирующего «физикой» богослова как раз в том, чтобы связать уже набравшие популярность и авторитет представления о теле с традиционной идеей о божественности души, чтобы буквально одушевить тело. Неудивительно, что медицинскую лексику и, вслед за ней, медицинский же взгляд на тело человека мы найдем и у Лотарио де Сеньи в публикуемом ниже знаменитом трактате «О ничтожестве человеческого состояния». Если богословы понимали необходимость говорить на языке физиологии, медицины и анатомии, ясно, что за этим их ощущением стоит глубоко христианское представление о достоинстве человека, созданного по образу и подобию Божию и поэтому нуждающегося в возвращении к этому райскому состоянию. Спасение души вовсе не противоречит более спасению тела [442].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу